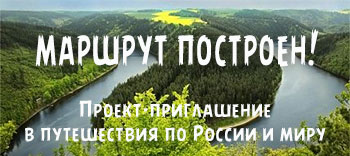Долгополов И.В. Орест Кипренский

Кто шагнул совсем юным в искусство России на пороге XIX века и буквально в десятилетие создал полотна, сразу показавшие Европе, что в Петербурге появился талант силы необычайной? Это был Орест Кипренский, первый из наших соотечественников, чей автопортрет вошел в коллекцию знаменитой флорентийской галереи Уффици и потряс итальянских коллег мощной светоносной живописью, настолько неожиданной и непривычной для той эпохи, что маститые мастера приняли однажды его картину за работу Рембрандта ван Рейна. Кипренский словно шутя одолел вершины портретного мастерства (хотя это досталось ему ценою невероятного труда) и открыл своими холстами путь в европейское искусство. Именно Орест Кипренский раньше великих Карла Брюллова и Александра Иванова показал искрометную и чудодейственную силу русской школы.
Казалось, сама Россия вдруг увидела себя в произведениях молодого Кипренского. Его портреты десятых, двадцатых годов прошлого века показывают нам людей восторженных, смелых, красивых, одухотворенных. С полотен как бы упала некая вуаль условной томности живописи его предшественников, и на нас сегодня глядят образы современников, написанные Орестом Кипренским во всей открытости и полные духовного движения. Полные силы, его холсты были новым словом в искусстве той поры.
...Кипренского справедливо считают первым русским романтиком в живописи. Но приверженность к этому направлению носит у него глубоко национальный характер. Он написал свои шедевры, составившие ему славу, в первой четверти прошлого века. Их можно отнести но мировосприятию к романтизму, хотя живописцу абсолютно были чужды мотивы «мировой скорби», «мирового зла», поэтики «двоемирия», он не искал «ночной» стороны души. Его великолепные холсты созданы человеком, влюбленным в жизнь. Вы не найдете в них мучительного разлада, разъедающего анализа. Кипренский тех лет — певец радости жизни и образа прекрасной личности, цельной и гармоничной. Таковы портреты мальчика Челищева, Е. П. Ростопчиной, Е. В. Давыдова... Этим и другим портретам того периода свойственно напряженно-лирическое, эмоциональное, ярко очерченное пластическое выражение человеческой личности, свободно проявляющей свое отношение к жизни, ждущей и видящей красоту и значительность в самом бытии, присутствии на земле, участии существования рода людского. Вот эта самоценность чувства прекрасного, владевшего художником, невольно осветила каждый созданный им портрет, хотя далеко не каждый персонаж из этой галереи напоминает классический идеал красоты. Но светлый гений Ореста Кипренского, его истинный гуманизм раскрывают недоступные для иного художника глубины. Картины Кипренского как бы излучают особый духовный свет, который озаряет образы люден. Холстам мастера не присуща красивость или сентиментальность его предшественников. Нет. Кисть его мужественна, язык полотен сочен и правдив.
...Всегда удивляет та точность, с какою астрономия предсказывает то или иное небесное явление. Даже в древние времена ученые могли рассчитать появление кометы, наступление лунного или солнечного затмении. Но тем удивительней, что. умея так вычислить происшествия в сферах звездных, мы на земле вовсе не умеем угадывать, когда и где возникнет гениальный поэт или художник. Каких бы высот ни достигла кибернетика и электроника.
Тут все же есть тайна! Как поистине дивные цветы, редко, но всегда поражающе нежданно, ошеломляюще, внезапно возникают па нашей планете великие композиторы, писатели, живописцы. Бывали времена, когда один век дарил нам несколько гениальных имен. Таким стал итальянский Ренессанс. XIX век в России дал миру великолепное соцветие мастеров слова, кисти, музыки. Среди этого поистине замечательного потока творцов был и Орест Кипренский.
На скудной части земли, на заброшенной мызе с чудесным именем «Нежинская» вблизи Копорья, на берегу Финского залива, в окрестностях Ораниенбаума, в поместье, принадлежавшем бригадиру Алексею Степановичу Дьяконову, 13 марта 1782 года родился мальчик. Назвали его Орестом. Мать его, Анна Гавриловна, была «крепостной девкой», и, чтобы скрыть факт незаконнорожденности, помещик выдает се за своего дворового человека, в семье которого и вырос будущий художник. Надо заметить, что Дьяконов дал ему вольную. Он же дал Оресту фамилию Копорский по имени местечка. Фамилию, которая с годами стала более благозвучной,— Кипренский.
Так, с первых шагов появления на свет биография Ореста была не совсем обычной и носила характер, связанный с некой тайной. Он подрастал, и его «вольное» положение позволяло ему на досуге бродить по песчаным дюнам, любоваться бегом волн, слушать пронзительные крики чаек. Он был обладателем бесценного богатства — свободы — и делал, что хотел: целые дни гулял по зеленым лугам и рощам, рвал цветы и приходил домой счастливый и усталый. Душа малыша была освящена простором, неповторимым ощущением движения, которым полна природа. Бег скользящих теней от плывущих в небе облаков сливался в его представлении с вечным колыханием моря, неутомимо гнавшего волны на берег. Шелест деревьев переплетался с шорохом трав и пением птиц, свежие зори сменял жаркий полдень, и вот уже вечерняя звезда загоралась в небе. Великий круговорот бытия стал с младенческих лет близок Оресту. Он полюбил природу, люди были добры с ним, и мальчик не познал в детстве горя. Хотя ничто не ускользало от пристальных глаз. Он видел слезы матери, не раз становился свидетелем сцен из крепостного обихода. Но Орест был слишком мал, чтобы вникать в эти сложности времени, и... рисовал. А когда ему исполнилось шесть лет, его отдали в Петербург, в Академию художеств. Но всю жизнь он будет вспоминать мызу Нежинскую, Ораниенбаум и один странный эпизод, который, как ему казалось, много дал для ощущения объемности мира.
...Прокряхтела узорная дворцовая дверь. Маленький Орест осторожно ступил на пыльный старый паркет. Немедля запела половица, одна, другая. В странном зыбком свете высоких зашторенных окон выплывало ажурное огромное зеркало. На цыпочках, стараясь не шуметь, мальчик пересек пустой, казавшийся бесконечным зал. Вот, наконец, и зеркало. Густая пыль, как омут, затянула стекло. Малыш снял картуз и протер уголок зеркала. В небольшом круглом оконце вдруг появилась кудрявая всклокоченная голова Ореста, а позади, будто во сне, выросла стена картин в золоченых рамах, они тускло поблескивали в сумерках зала. Вот белокурая нимфа, рядом косит черным глазом сердитый вельможа в звездах и регалиях, вот вздыбился горячий конь, неся грозного всадника. Жутко, одиноко стало Оресту. Но крошечный сверкающий колодезь будто манил малыша, и, как ни отклонялся от него Орест, всюду его настигали темные полотна в дорогих старых рамах... Страшный грохот вывел мальчишку из оцепенения. За окнами хлестал ливень, сверкали молнии. Кое-как нахлобучив картуз, Орест без оглядки помчался прочь из дворца. Мелькнул полосатый шлагбаум, и мальчик выбежал, вернее, вылетел на волю. Над ним неслось темное, все в рваных тучах грозовое небо. Оно внезапно встало впереди, ограниченное в водах канала легким мостком. Ветер выл в старых деревьях парка. Дождь срывал пригоршнями листья и кидал их к подножию мраморных античных богов. Когда вымокший насквозь Орест ворвался в свой дом, мать испугалась. Она прижала его к груди, пытаясь узнать, что случилось. Орест молчал, но наконец разрыдался.
Воспоминания детства. Все это, как далекие грезы, сливалось для мальчика с отдаленными представлениями о вечной жизненности природы, о временности людских усилий. Он рано понял истинную сложность этой природы, познал и усвоил стиль века минувшего. И когда ученик Академии, вдоволь надышавшись пылью в классах, нарисовавшись слепков с античных скульптур, вырывался на простор набережных Невы, то все воспоминания детства будто оживали вновь: он видел бегущую речную волну, тот же гортанный и пронзительный крик чаек тревожил его слух, он зрел бесконечную панораму дворцов — словом, все в душе Ореста сливалось в единый поток бытия.
...Трепетной сине-розовой радугой опрокинулся в изумрудные воды пруда горбатый мостик. Словно в зеркале, плыли по радуге белые, лиловые, серые облака — три девушки в пышных платьях. Они не шли, а словно скользили, их отражения сплетались с отсветами березовых стволов, и казалось, что пруд не что иное, как перевернутая картина, написанная кистью старого мастера, потемневшая от времени и покрытая лаком...
Живой мир, свежий, яркий, с резкими гранями и мягкими касаниями цвета, окружал и брал в плен юного Ореста, глядевшего на пейзаж, будто проснувшись и удивившись в первый раз. Щебетали, пели птицы. Жар волнами обволакивал его. Ветер доносил горький душный запах скошенного сена, он прилетел из березовой рощи. Природа летнего дня, роскошная, ленивая, томная, глядела на молодого художника с альбомом в руке и, казалось, тихо шептала на ухо юноше: «Ты понял меня?». Карусель солнечных бликов вертелась по зеленой лужайке, мелькала по нежным стволам берез, играла на листьях деревьев. Листок альбома менялся па глазах. Белая бумага сама как будто излучала свет. И каждое мгновение делало ее то солнечно-желтой, то серо-сиреневой, то голубой. Так изменяли цвет бумаги рефлексы, свет и тени. Позже это назовут пленэром. А сегодня Орест мечтал написать этот уголок природы.
Юный Кипренский превзошел всех своих сверстников в стремлении постичь законы красоты. Он проводил сотни часов за копированием холстов классиков мировой живописи. Академические профессора ставили ему первые номера за великолепные рисунки с античных слепков, за натурные этюды. И вот годы школы позади. Видит бог, он не жалел сил, отдал свою энергию познанию сложного ремесла живописца, стал изумительным рисовальщиком. Когда же по окончании в 1803 году Академии Кипренский не получил заграничной командировки, молодой художник принялся с неистовством писать с натуры и его зрелое, превосходное мастерство в соединении со свежестью и первичностью видения мира потрясло всех. Он очень быстро стал героем всех выставок.
«Автопортрет» 1808 года... Поразительно трепетна живопись этого холста. Легкие, как дымка, Валеры смягчают энергичную и сочную кладку картины. Благороден колорит. Но особенную прелесть и живость изображению придают бегущие блики света, легко намеченные рефлексы и обобщенно взятые тени.
Необыкновенно юн, по-детски открыт пристальный, чего-то ожидающий взгляд молодого человека. В нем ощущаются затаенная грусть и раздумья. Сам облик мастера: его курчавые каштановые волосы, красиво обрамляющие высокий, выпуклый, чистый лоб лишь с еле заметной тенью забот, легшей между дуг бровей, нервные ноздри, будто вздрагивающие от напряжения, мягкая линия маленького рта, ямочка на подбородке, утопающая в свободно повязанном розовом шейном платке, небрежно накинутый на плечи плащ — все рисует нам образ романтический, полный поэзии и тайны. Неотразимый магнетизм юности чарует зрителя в этом автопортрете. Какая-то духовная открытость, приветливость отличают великолепно исполненное полотно. Живописец прожил всего четверть века и достиг той счастливой поры, когда годы учения в Академии художеств, кропотливого труда, изучения классиков и ожидания позади. И вот кисть виртуоза стремительно и непогрешимо намечает тончайшие валеры, создаст тот драгоценный слиток света, теней, нюансов розового, серого, коричневого и умбристых цветов, ощущения впервые увиденного, прекрасного, что отличает жемчужину искусства от обычной картины. Весь облик художника — непринужденность. Здесь полностью отсутствует скованность, которая порою присуща жанру автопортрета, когда живописец как бы невольно привязан к зеркалу и мольберту.
Сама жизнь была тогда восторгом. Радость встреч и печаль расставаний. Свежесть ранних зорь и прелесть вечерних закатов. Звуки клавесина и шорох атласных платьев. Чарующий аромат юности, неповторимость мгновений бытия. Все влекло душу молодого Ореста Кипренского, звало к одному заветному желанию — творить, оставить людям свое изумление перед чудом ощущения непрерывности впечатлений, от всей этой радужной кантилены смен дня и ночи, весны и осени, смеха и слез. Кипренский далек от гражданственных раздумий, и, хотя его молодость была не безоблачной и тягость будней, серость мизерной суеты ежедневно лезли в глаза, все же юноша жил в каком-то будто заколдованном мире грез наяву; сильная рука мастера, его трепетное сердце и острый взгляд были словно нацелены на одну лишь ему ведомую цель — писать, писать, рисовать изо всех нерастраченных сил, отдавать весь запас нестертых впечатлений творчеству. И он не покладая рук работал, изучал пластику старых мастеров, копировал шедевры Корреджо и Ван Дейка, рисовал слепки с античных скульптур, желая одолеть ремесло, чтобы получить высшее наслаждение — свободно петь, воспевать окружающую его красоту. Вот почему напрасно искать у Кипренского жанровые полотна, отражающие прозу будней. Молодой художник считал своей задачей видеть лишь прекрасное, отбрасывая уродство, грязь и тщетную суету, владевшие большинством окружавших его людей.
Порою, разглядывая многочисленные портреты Кипренского, написанные в разное время, кажется, что в нем жили разные художники. Восторженный романтик молодого периода, далее зрелый живописец-реалист, а в конце судьбы полотна мастера скорее склоняются к давно им же забытому академизму. Странная эволюция... Но дело было значительно сложнее и трагичнее. Сама проза жизни заставила вдохновенного мечтателя стать скептически настроенным прозаиком, а далее равнодушным и даже циничным маньеристом.
Дар Кипренского напоминает чудесное дерево яблони, которое в пору весны чаровало нас свежими белопенными цветами. К лету поспели сладкие плоды, радовавшие своим совершенством. К осени плоды были сорваны, листья облетели, и мы увидели лишь остов стареющего дерева. Так художник, отдав все силы весенней поре и поразив всех красотой своих цветов, а далее гроздьями спелых плодов, разочаровал и даже ужаснул своих современников голой неприглядностью сухих голенастых веток. Но этот долголетний процесс мог быть другим. Если бы Кипренский встретил на родине истинное признание, имел бы заказы и славу, его жизнь оказалась бы совсем другой и не походила бы в конце на высохшую яблоню.
...Что потрясло современников в портретах Кипренского? Ведь русская школа имела уже до него блестящие работы таких корифеев живописи, как Левицкий, Рокотов, Боровиковский. Чем покорил зрителей молодой мастер?
В своих первых шедеврах, созданных в начале XIX века, он показывает нам новую красоту в искусстве русского портрета. Если его великие предшественники были во многом скованы условностями и часто их полотна носят следы комплиментарности, то холсты Кипренского с самого начала поразили неподдельностью восприятия мира, человека, его души. Словно живая нить связывала художника с природой, окружающей его, Кипренский был сам частью этого чудесного мира, и любовь живописца, его светлое изумление перед дивом мироздания отразились в его картинах, дышащих каким-то щемящим откровенным удивлением живописца.
«Портрет Е. В. Давыдова», родственника знаменитого гусара-партизана. Сколько откровенной удали и ощущения собственного достоинства в облике этого молодого героя Отечественной войны 1812 года! Кипренскому удалось создать прототип воина-победителя, боевого офицера. Все в нем, начиная от шапки смоляных черных непокорных волос, огненного взора карих глаз, залихватских усов до жеста руки, подбоченившейся на округлое бедро,— по-мужски красиво и благородно. Великолепно написан этот портрет. Все детали: ярко-алый мундир, обшитый галунами, белоснежные лосины, сверкающая сабля и, наконец, сам пейзаж, таинственный, полный игры света и тени,— все наполняет холст неким скрытым, внутренним движением, говорит о недюжинной силе и храбрости героя. Эта картина была очень популярна и любима зрителем, но тем более странно и несправедливо, что заказные портреты героев 1812 года были отданы на откуп англичанину Джорджу Доу... Но с царями не спорят.
Кипренский на первых порах писал самых разных людей и по возрасту, и по положению. Он далек от некоторых льстивых коллег, думающих лишь о славе. Орест был простодушен, нетороплив и, главное, верил в свою музу. Его произведения великолепно отражают чистоту помыслов художника, преданность высокому искусству, правде, В чем можно упрекнуть живописца, это лишь в откровенной приверженности романтическому взгляду на окружающий его мир. Образы его ранних портретов словно озарены каким-то дивным, ярким и в то же время нежным светом, их глаза, устремленные вдаль, словно поражены открывшимся им чудом. Фонами же служат либо бурное, мятежное небо, словно символизирующее драматичность бытия, либо просто бездонная глубина, еще выпуклее заставляющая звучать сам характер портретируемого, его исключительность, жизненную значительность, «достоинство человека как человека». Но самое примечательное, что гуманистическое возвеличивание личности никак не лишает портреты Кипренского особой трепетности «томленья упованья», о котором писал властитель дум той эпохи Пушкин. Скрытая надежда, ожидание счастья, вера в светлое начало — все эти черты присущи большинству портретов Кипренского первого пятнадцатилетия его творчества. Это состояние «упованья», столь ярко выраженное в полотнах нового художника, и составило его крайнюю популярность о среде просвещенных кругов России. Успеху способствовал еще и сам ход истории пашей Отчизны.
Казалось, столь удачно начатый путь, уже с первых шагов озаренный европейской славой, определил дальнейший расцвет искусства Кипренского. Однако суровые реалии назначили иной поворот. Уже отгремели победные салюты 1812 года, отзвучали пиры, отшумели кантаты, воспевающие героев. И все ярче стали проступать суровые будни того времени. Пора упования и надежд растаяла. Прекрасные иллюзии «дней александровых» рухнули. Все слышнее и убедительнее доносились грозы социальных бурь, сотрясавших Европу, все отвратительнее проступали крепостнические черты тогдашней России. Наступал 1825 год...
Как выразить загадочную многоликость первого поэта России в портрете? Ведь сколь глубинно и мастерски ни будет исполнена картина, она всего лишь однозначное изображение краской на полотне, не более. А сам Пушкин, по воспоминаниям современников, был крайне разнолик. То задумчив, то смешлив, то резок и вспыльчив, то дружелюбен и мягок. Самое трудное для Кипренского было то, что он знал меру гения поэта во всем величии, и это делало работу безмерно сложной. Хотя художник уже давно овладел секретами живописного мастерства и создал ряд немеркнущих творений, заслуживших справедливую славу, его, как мальчишку, волновал вопрос: как решит он этот портрет? Беспокоило не достижение сходства, или, как говорят, «похожести». Нет. Перед Кипренским стояла задача оставить в веках образ гения. Вглядитесь, какими сложнейшими средствами достиг этого художник. Прежде всего он должен был найти еще неведомое ему неоднозначное решение. Он должен был заставить зрителя проникнуть в бездну души своего героя.
Зыбкий свет озаряет задумчивый облик Пушкина. Далеко-далеко, куда-то вдаль устремлен взор светлых глаз. Невесело сомкнуты губы. Темные негустые кудри свободно окаймляют задумчивое чело, заставляя еще выпуклее и значительнее выявлять лицо, словно заключенное в раму глубокого фона и темного костюма. Туго повязанный синий галстук и белоснежный воротник подчеркивают ровную смуглость словно чеканного образа создателя бессмертных шедевров поэзии. Высоко подняты брови; кажется, Пушкин чего-то ожидает или раздумывает над чем-то, только тонкие нервные пальцы подчеркивают напряжение. Мы не знаем, чего ожидает создатель «Онегина», не ведаем, о чем он думает в эти минуты.
Встреча двух великих художников — слова и кисти... Это всегда тайна. Ни один рассказ, никакие догадки, листки из дневников современников не передадут ту колдовскую атмосферу общения душ, которая создается подобным контактом. Мы можем только догадываться об обрывках фраз, коротких беседах, отдельных словах, которые, подобно пламени, вспыхивали временами в процессе работы. Одно можно предположить: невеселые это были беседы. Потому так затуманен лик Пушкина, потому так отстраненно печален его искрящийся взгляд. Кипренский не только чтил в Пушкине поэта. Он боготворил его как человека, друга. Поэтому можно только вообразить, что испытывал живописец в эти часы.
Кто мог предполагать, что им обоим отмерено судьбой всего лишь еще с десяток лет и что финал жизни каждого из них будет по-своему трагичен? Но состояние некоего томления, предчувствия, почти неуловимого оттенка тревоги чувствуется и в колорите холста, и в темной фигуре музы на фоне, и, конечно, в жесте руки с крепко сжатыми пальцами. Нельзя забывать, что этот портрет написан всего лишь через год после гибели декабристов и тени друзей поэта витали совсем близко... Орест Кипренский писал портрет Пушкина долго. Не одни и не пять сеансов. Он «торопился не спеша». Давно уже мастер сделал подмалевок. Поэт был похож, но острые глаза живописца, и даже не столько глаза, сколько сама душа подсказывала, что это не то что хотел он создать, о чем мечтал не один год. Читатель, русский. Кипренский грезил создать портрет своего первого поэта, многие стихи которого он знал наизусть.
Образ не удавался: полотно, краски, рисунок, несмотря на иллюзию схожести, соединяясь где-то, упустили главное, первейшее, кардинальное свойство Пушкина — его невероятную многогранность, а без нес, этой мерцающей, как волшебный кристалл, многогранности, не могла быть решена загадка обаяния поэта. Да, невыразимо тяжелая задача пала на плечи живописца.
Смеркалось, когда Пушкин уехал. Еще ладонь художника ощущала тепло крепкого, энергичного пожатия его руки. Давным-давно прозвучали звуки отъехавшего экипажа, а Кипренский стоял у незаконченного полотна. Быстро вечерело. И чем мягче становился свет, тем все живее и значительнее делался портрет. Вдруг ушли ненужные детали, блики, излишняя яркость красок, эффектные удары кисти. Темнее, глубже становился фон, еще светлее и прозрачнее смотрелись глаза. Художник будто очнулся. Ведь сам свет в студии подсказал ому решение общего тона портрета. Но это еще не все. Как далекие потомки угадают принадлежность Пушкина к поэзии? Ведь может пройти много лет, а пути истории неисповедимы. Чего не хватает в КОМПОЗИЦИИ холста? Музы. В этот час она стала рядом с поэтом.
Кипренский оставил нам целую галерею очаровательных женских образов. Но в отличие от своих предшественников его холсты лишены какой-либо напускной репрезентативности и сентиментальности. Каждая из его героинь — остро очерченная индивидуальность, мыслящая личность, обладающая обаянием, могущая возразить и поспорить. Им присуща иногда лукавая улыбка, глаза на портретах выписаны особенно выразительно, в них поистине таится сама душа.
«Портрет О. А. Рюминой». Это не самое лучшее произведение живописца, создавшего портреты Е. П. Ростопчиной, Д. Н. Хвостовой, Е. С. Авдулиной и многие другие. Но и этот холст прекрасен. С каким артистизмом написана каждая его пядь! Кисть безошибочно обозначает пышную прическу дамы, се дивные глаза со взглядом бесконечно живым и как бы вопрошающим, ее тонкий нос, коралловые пухлые губы, мягкую линию шеи, прекрасно обрамленную меховой накидкой, кружева красного бархатного платья. Все показывает нам виртуозность кисти, сочную и правдивую палитру. Отличие любого портрета Кипренского — обостренное ощущение достоинства человека, которого он изображает. И дело не в том, насколько красива модель, а, пожалуй, в том, что художник почти не писал людей недалеких, неумных, неприятных. Мастер создавал свои портреты от всего сердца, делался пристрастен к своим моделям, и это его горячее чувство художника, преклоняющегося перед величием Человека, отличает все его лучшие произведения. В «Портрете О. А. Рюминой» видно, что Кипренский одолел школу Ван Дейка (он не зря много копировал его в молодости), и теперь в этой картине мы зрим живопись, равную ему по благородству колорита, изумительному рисунку и той тонкости валеров, которыми пронизан весь холст.
Глядя на картины Кипренского, вспоминаешь строки В. А. Жуковского: «И для меня в то время было жизнь и поэзия одно». Действительно, Орест Кипренский старался «как жить, так и писать». Александр Бенуа, обычно крайне тонко чувствовавший ИСКУССТВО, мне думается, был неточен, сказал: «Кипренский был натурой сентиментальной, склонной к романтическим порывам... скорее влюбленный во внешнюю прелесть, нежели вникающий в глубь явлений». Эти слова написаны в 1901 году. Мы славим ныне Ореста Кипренского, нисколько не сентиментального, а поистине объемно. поэтически мыслящего мастера, проникавшего в своих лучших полотнах в самую глубь человеческой психологии и давшего мировому искусству шедевры непреходящей ценности; в этом смысле ранние холсты Кипренского — эти небольшие но размеру портреты — вырастают до грандиозной по охвату и пониманию галереи современников: от пытливого и сокровенного «Мальчика Челищева», одного из лучших детских портретов мирового искусства, до вдохновенного и обнятого всеми заботами своего времени гениального Пушкина...
Причины и следствия, сломавшие ясное, пристрастное, полное жизнелюбия мировидение Кипренского, лежали во многих больших и малых препонах, которые, как ни странно, возникали на пути его творчества. Вот документы, рисующие нам теневые стороны жизни государства российского той эпохи.
Давно уже стали нарицательными имя Булгарина и его «трудолюбивой» «Северной пчелы». Кипренский не избежал касания с этим литератором, совмещавшим вместе с занятием беллетристикой сотрудничество с третьим отделением. Вот что он писал о портретах мастера: «Нельзя не восхищаться трудами О. А. Кипренского, нельзя не порадоваться, что мы имеем художника такой силы, нельзя не погрустить, что он занимается одними портретами». И далее: «О. А. Кипренский, доставив наслаждение любителям художеств, заставя их желать, чтобы он произвел что-нибудь историческое, достойное своей кисти».
«Что-нибудь историческое»... Нетрудно представить, какой сюжет предложит автор романа «Иван Выжигин» - Фаддей Булгарин портретисту Кипренскому. Но, думается, суть была не в этом. Дело в том. что, пожалуй, ничего более исторического и значительного, чем человек, нет. Поэтому именно портрет — истинный, глубокий, реалистический, пусть окрашенный романтическим гением автора, — и есть вершина искусства, ничуть не меньшая, чем иная академическая или ложноклассическая махина, облеченная в многопудовую золотую раму.
Трудно понять, чего больше у Булгарина: ханжества, лицемерия, фарисейства или подлости? Зачем требовать от соловья, чтобы он пел басом? Ведь подобные рецензии действовали угнетающе на художника, знавшего отлично цену редактору «Северной пчелы».
Но вот десятилетием позже публикации Булгарина возникает в 1836 году другая статья, подписанная Сенковским. В ней на страницах «Библиотеки для чтения» автор критикует два портрета Кипренского. «Говорить ли здесь,— пишет Сенковский,— о двух портретах Кипренского? Это скорее... две картины частного рода. Вы спросите, какого же частного рода? Мы скажем: гнилого».
Самое зловещее то. что в момент публикации художник был уже мертв. И кляуза была как бы эпитафией журналиста на свежую могилу русского гениального живописца. Что касается Сенковского. чему здесь удивляться, ибо в свое время автор нашел, что замечательные творения молодого Гоголя «пахли дегтем». Но смысл развития истории культуры и искусства в том. что булгарины и сенковские «занимают свою полочку», а Пушкин и Гоголь, Кипренский и Александр Иванов стали гордостью России, невзирая на хулу недругов.
Так. только чуть-чуть приоткрыв биографию Кипренского, начинаешь понимать, под каким постоянным пристальным вниманием находился художник. И чем более неординарным и не подходящим под банальные мирки являлся людям его дар, чем самостоятельнее и оригинальнее чувствовал он, видел и писал, тем прохладнее и равнодушнее делались официальные круги. Невольно приходит на память вся неприглядная история отношений Брюллова с Академией н двором. Да разве одного лишь Брюллова, когда буквально рядом мы видим Александра Иванова...
Покинув Петербург, серое небо, булгариных, казенную скуку, Кипренский бросил у берегов Невы неверных почитателей, малую горстку друзей и не оставил ни одного любящего женского сердца. Он бежал в Италию, где надеялся найти тепло, синий небосвод, рассеять тоску и, прогнав хандру, взяться за работу. Таковы были мечты Кипренского. Но жизнь смела все эти непрочные расчеты. На первых порах (пока были какие-то деньги) вечный Рим, видавший много странников, улыбнулся художнику. Но что ни день, все яснее обозначалась коварная истина: он был полузабыт, все успехи молодости далеки, нужно было вновь блеснуть силой своей кисти, мощью таланта. А вот силы-то уже и не было.
Пожалуй, самое страшное в судьбе любого большого художника — пережить сознание разочарования собственным даром, Когда, несмотря на еще далеко не преклонные годы, палитра становится тусклой, кисть теряет свою единственную остроту; и, что поистине жутко, видеть самому предельно четко и обнаженно свои вялые картины — переспелые либо недозрелые плоды горьких жизненных замет, разбитых либо неосуществленных желаний. Это чувство перерастает в болезнь, если живописец знал ранее, что такое триумф, когда каждый почитал за счастье побывать у него в студии. Тогда на вернисажах у холстов мастера царила праздничная суета и толчея, а многочисленные друзья и недруги, словно забыв о суете мирской, спешили заключить художника в объятия, поздравить его с победой.
Да, в 1828 году, прибыв в Рим и понадеявшись на свой талант, он с ужасом обнаружил однажды, что его гладкие, зализанные, тщательно отлакированные работы, несмотря на уйму труда и тщания, лишь бледные тени былых его картин, в которых била ключом сама жизнь. Тогда на родине, в годы успеха, добытого годами учения и беспрерывного труда, разве мог он представить, что наступит миг, когда толпа почитателей, некогда носившая его на руках, вдруг отвернется и справедливо отшатнется от его полотен?
Именно и Италии Кипренский понял, что произошло непоправимое. Здесь, на чужбине, несмотря на ласковое солнце и добрых старых знакомых, как никогда остро он ощутил: былого не вернешь. Никакая виртуозность, никакие кунстштюки, замысловатые жанры не заменят самого простого и самого сложного: святого чувства прелести бытия, ощущения свежести, трепетности, неповторимости данного тебе природой мига, когда, осененный вдохновением, ты способен как бы остановить, запечатлеть на холсте это великое единственное диво — жизнь!
Ах, сколько раз он вспоминал портрет мальчика Челищева. десятые годы, годы, когда любые препоны казались преодолимы, когда труд был счастьем и самим бытием. И сегодня будто глядит на тебя этот русский мальчишка. Смотрит чуть раскосыми, как спелая вишня, широко открытыми, наивными, поблескивающими очами. Пухлогубый, курносый, со вздернутыми удивленно топкими бровями, с еле заметным румянцем, он напоминал Кипренскому его детство, Россию, радость и счастье. Как уверен этот маленький человек в своей значительности, и эта его гордыня была понятна художнику, молодому, полному сил. Сколько прошло лет с тех пор, но ни разу он не испытывал такого чувства необъятности и загадочности образа личности. Да, личность — это не гербы и родословная, не капиталы или поместье, это Человек!
Кипренский взглянул в окно. Великий город жил своей жизнью. Солнце поблескивало на куполе собора святого Петра. Бесчисленная громада домов застыла в голубом сиянии утра. Наступал новый день, полный забот, мелких унижений, компромиссов и чувства безысходности. В просторной мастерской на мольберте художника ждал загрунтованный холст. Не писалось...
В остерии было шумно. В открытые двери тянулся дым. Окна, закрытые дешевыми занавесками, мерцали сумеречно. Смех, обрывки песен сливались в нестройный гул. Кипренский сидел в глубине харчевни. Его любимое место было в углу, откуда он видеть всех, оставаясь незамеченным. На деревянном столе перед ним стоял стакан с красным вином, рядом с большой флягой валялся белый платок.
Из полумрака глядело немолодое уже, несколько оплывшее лицо некогда знаменитого мастера. Поредевшие кудри прилипли ко лбу иссеченному мелкой рябью морщин. Иронически вскинутые брови, глаза потухшие, прикрытые тяжелыми веками. Но пугала не усталость, сквозившая во взоре, а некая отрешенность живописца от всей этой шумной жизненной кипени. Он смотрел словно не на вас, а сквозь, и от этого взгляда становилось не по себе. Иногда его губы складывались в сардоническую усмешку, тогда физиономия Кипренского становилась неприятной, и как ни странно, холодной и печальной. Пухлый подбородок навис над неряшливо повязанным галстуком. Все в облике этого человека говорило: он когда-то был красив. Однако глубокая меланхолия, сквозившая в каждой черте его лица, словно повторяла: был, был, был. Внезапно ветер захлопнул дверь и через миг снова отворил ее. Луч солнца, сверкнув по стеклу, побежал по грязному иолу, осветил группу стариков, игравших в карты, скользнул но грифу гитары и руках молодого итальянца, вдруг блеснул в стакане вина и, прыгнув на белоснежный платок, мгновенно исчез... Кипренский вздрогнул. Этот световой эффект, длившийся секунду, показался ему вечностью. Он, как никогда ярко, увидел лучезарные, убежавшие от пего колера, с какой-то щемящей грустью еще раз почувствовал, что ему никогда так уже не написать свет и тени, никогда так сильно не взять цвет. Жизнь забросила его, и он потерял нить, связывающую душу с отчизной. Как далеки, безумно далеки Россия, Петербург, мыза, где он так счастливо рос...
Художник шел домой.
Ветер, холодный ветер разогнал клочки туч, и старые, как мир, звезды взглянули на одинокую фигуру сгорбленного человека, бредущего в неродной нелюбимый дом...
Орест Кипренский осторожно переступил мраморный порог дворца Клавдия — пустынного палаццо с голыми, угрюмыми стенами. Зыбкая тишина старого дома окружила художника. Где-то журчала вода. Кряхтели половицы. Синий свет струился из высоких окон. Спальня... Усталая Мариучча заснула. Догорала свеча, ее трепетное багровое пламя дрожало. Странные сполохи скользили по лепному потолку. Кипренский опустился в ветхое бархатное кресло и вдруг с какою-то пронзительной отчетливостью услыхал сухой неумолимый стук маятника. Бронзовые большие часы пробили полночь. «Время, как незаметно ускользаешь ты от меня»,— подумал художник и невольно взглянул на свечу. Жалкий, беспомощный светильник угасал. Вот он вздрогнул и вспыхнул в последний раз.
Римская ночь в лиловой тоге величаво вошла в комнату. Кипренский не увидел ее лица. Но глаза ночи — яркие звезды, казалось, проникли в самую его душу.... Негромкий голос спросил живописца: «Почему ты не спишь, Орест? Что мучает твое сердце?» Художник молчал... Тогда ночь раздвинула штору, и сиреневый лунный блик озарил бронзовую музу, державшую циферблат часов. Юная дочь Зевса наклонила голову и чутко прислушивалась к бегу времени. Кипренский не сразу узнал ее. Но вскоре понял, что это муза, которую он писал на портрете Пушкина. Молодая богиня была так же печальна и молчалива. «Я потерял свою музу»,— хотел промолвить художник и... заснул.
Нелепые, жуткие маски обступили Кипренского. Они возникали из душной рдяной мглы, словно гонимые горячим ветром, и то приближались к живописцу, то исчезали. Их было несметное множество. Розовые лики седовласых вальяжных академиков в жестких расшитых золотом мундирах подмигивали и посмеивались над ним. Их сменяли фарфоровые личики — томные и пронзительные, чарующие и пугающие. Слышен был шелест шелка, шорох атласа, кружев, и художника окружил сонм придворных дам, их шумных дочерей, то сентиментальных, то вздорных. Раздались звуки полонеза, и из мрака появились бледные и румяные благородные и пошлые физиономии вельможных меценатов, их фраки были усыпаны звездами. Наступала тишина, но ее нарушали шуршание бумажных полос, скрип перьев. Льстивые и зловещие, постные, лоснящиеся лица газетных писак. Шум и гам сотрясали воздух. И вновь тишина. А затем яркий ослепительный свет люстр и молчаливые ряды величавых и значительных фигур царедворцев, застывших, как на параде. Пестрая карусель видений тревожила художника нераскрытой, но ощутимой опасностью. Эти люди шептали, сюсюкали, восторгались, обличали, превозносили, низвергали. Их гомон дурманил, томил душу. Сердце Кипренского сжалось, он хотел бежать куда-то. Внезапный грохот разбудил мастера. Светало... Ветер растворил настежь окно спальни. Приближался новый день. День без надежд.
В октябре 1836 года Кипренский простудился, слег. Горячка сделала свое дело, и вскоре художника не стало. Похороны были очень скромными. Вот что записал один из немногочисленных друзей покойного: «Жаль видеть стоящий на полу простой гроб с теплящейся лампадкой... Прискорбно смотреть на сиротство славного художника на чужбине».
Петербург почти никак не реагировал на это печальное событие. Пресса смолчала.
Великий же Александр Иванов, много познавший на своем тернистом пути и обладавший опытом общения с Академией и вельможами Петербурга, гневно сказал: «Стыд и срам, что забросили этого художника. Он первый вынес имя русское в известность в Европе...»
Долгополов, И.В. Орест Кипренский // Долгополов И.В. Рассказы о художниках: В 2-х томах. – М.: Изобразительное искусство, 1983. – Т. 2. – С. 6–29.







 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий