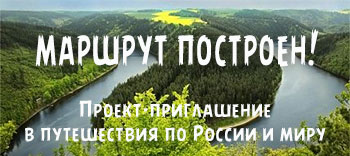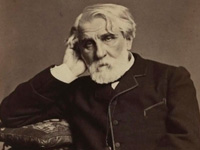Чернышева Е.Г. Библейские мотивы в повести А. С. Пушкина «Гробовщик»
Аннотация. Библейские мотивы во многом организуют художественную структуру повести А.С.Пушкина «Гробовщик». Христианские представления находят отражение в ветхо-и новозаветных мифологемах, реконструируемых в повести: Сотворения мира, Страшного суда и др. Благодаря библейским мотивам в повествовании раскрываются глубинные пласты мировидения героя повести Адриана Прохорова.
Ключевые слова: библейские мотивы, мифологема, христианская теология, мировидение героя, поэтика, композиция, эпиграф, сновидение.
Повесть «Гробовщик» была написана А.С.Пушкиным первой из пяти, вошедших в «Повести Белкина», но идейно-художественные особенности «Гробовщика» и сама композиция болдинского цикла (1830) обеспечили срединное положение в нём истории о русском ремесленнике. В шутливо-ироничном, казалось бы, тоне повествования, в будничных картинах жизни скромного мастера одного из московских цехов начала XIX века таятся фундаментальные проблемы существования человека: веры, смысла бытия, истории, её движения к предначертанному Богом финалу. В художественной структуре «Гробовщика» важное место занимают библейские мотивы.
Согласно христианской телеологии, созданная Богом жизнь на Земле развивается по пути, предначертанному Божественным Промыслом, мир движется к определённой цели: это восхождение от грехопадения ко всеобщему воздаянию на Страшном суде. Причём causa finalis — конечная цель Божьего замысла — есть установление «царства славы как полного обновления неба и земли, как реализация Божественного порядка»1.
Творчество А.С.Пушкина 1830-х годов, по нашему мнению, структурируется вокруг теологического — в границах православного сознания — взгляда на исторический и природный процессы. Выявление и интерпретация мифологем, почерпнутых из иудео-христианской культуры, в композиции фантастической повести Пушкина «Гробовщик» помогает прояснить теологическую проблематику как одну из смыслонесущих в произведении. В.И.Тюпа писал о роли притчи о блудном сыне в композиции повести, как и всего цикла 2.
С.Г.Бочаров указывал на ассоциации со Страшным судом в сновидении Адриана Прохорова 3. Но мотивы, воплощающие картины конца света, соседствуют в повести с мотивами, отражающими представления о происхождении мира и его Творце. Детальное рассмотрение тех и других позволит уточнить как поэтику повести, всего цикла, так и смысловую наполненность Болдинской осени 1830 года — важнейшего этапа духовного развития Пушкина.
Известно, что в цепи разнообразных внутренних мотивов эволюции Пушкина определённое место занимали взгляды немецкого мыслителя И.Канта4, который в своих трудах показал, что видимые человеческому разуму закономерности эволюции, порядок мироздания представляются целесообразностью без цели (с точки зрения человеческого разума с его скромными возможностями), ибо человеку не дано знать об истинных замыслах Бога. Для духовного восхождения человека и человечества необходима искренняя вера в нравственный идеал, то есть в совершенно праведного человека, Сына Божия, Который есть разумное основание, цель и смысл (Логос) всего существующего.
Важнейшими в осмыслении целей мироздания, в его движении к Царству Небесному были для Пушкина поиски духовной мудрости, содержащейся в православии. Нельзя в этой связи не вспомнить диалог поэта с митрополитом Московским и Коломенским Филаретом — выдающимся богословом, прославленным на исходе XX века православной церковью в лике святых в святительском чине. Он обратил внимание на стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1828), написав на него стихотворный ответ-наставление. («Не напрасно, не случайно/ Жизнь от Бога нам дана.»). Пушкин с благодарностью воспринял «стихи христианина, русского епископа» и, в свою очередь, ответил ему в начале 1830 года признательным стихотворением («В часы забав иль праздной скуки.»).
Сложный характер духовного становления Пушкина как писателя, его движения к глубинам христианского православного мировидения охарактеризован во множестве работ. Болдинская осень 1830 года явила собой тот отрезок творческого пути, когда линия духовного кризиса, резко опустившись вниз и достигнув минимальной отметки5, взметнула к высотам маленьких трагедий и «Повестей Белкина». Произведения обоих циклов отмечены отталкиванием и примирением западных и восточных, европейских и собственно российских ценностей, приметами сложного диалога православия и католичества / протестанства6. «Станционный смотритель» и «Моцарт и Сальери» содержат напряжённые ноты теодицеи (теодицея — совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым Божеством, несмотря на наличие зла в мире. Термин введён Лейбницем в 1710 году. — Ред.). Противопоставление гуманистических и христианских ценностей особенно ярко проявилось в «Каменном госте» и «Пире во время чумы», завершающем цикл маленьких трагедий идейно значимым «диалогом» свободы (позиция Председателя) и моральной ответственности (позиция Священника).
Проблемы веры, целесообразности Божественного мироустройства мы находим в поле мировидения героя повести «Гробовщик». Сложная повествовательная структура «Повестей Белкина» требует предельно корректного соотнесения объекта повествования этой повести (православный русский ремесленник, гробовщик Адриан Прохоров), повествователя, вымышленного Ивана Петровича Белкина, и авторского мировидения, конкретных художественных задач писателя.
«Сильные позиции текста» (название, эпиграф, первое предложение) вводят читателя в поле богословской проблематики. «Не зрим ли всякой день гробов, / Седин дряхлеющей вселенной?» — строка из оды Г.Р.Державина «Водопад» жёстко ориентирует читателя на мысль о неизбежности смерти человека. Импульс causa finalis задаёт первому предложению особый регистр бытийной семантики («Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвёртый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом» 7). Не только значение и стилистическая окраска лексики первого предложения, но и длина слов, синтаксис задействованы в решении идейно-художественной задачи. Предложение в целом выстраивается в чёткие ритмические отрезки, что придаёт им подобие эпического зачина; три ударения на коротких заключительных словах («всем своим домом») сообщают финальную экспрессию.
Наконец, название повести — видовое наименование человека по роду занятий — содержит морфему, обозначающую субъект того или иного действия, — суффикс «щик» и лексему, обозначающую объект действия, — «гроб». Делатель гробов, последнего земного вместилища, «домовины» человеческого тела, он провожает человека в последний путь, в Царство Небесное, где души почивших ожидают как суда индивидуального, так и в конце исторических времён — суда Страшного. Гробовщик самим объективным смыслом своего ремесла (обеспечивая свою жизнь за счёт чужой смерти 8) споспешествует, как говорили во времена Пушкина, завершению земного, бренного бытия человека.
Герой повести подспудно ощущает себя необходимым звеном в цепи закономерных явлений, неизбежно ведущих (что известно любому христианину) к концу света и Страшному суду. Конечно, такой вывод можно реконструировать из текста повести лишь опосредованно. По всей видимости, картина мира Адриана Прохорова в основных позициях строится на христианской вере. В быту гробовщика многие годы «всё было заведено самым строгим порядком», порядок этот сказывается и в домостроевских привычках отца семейства, и в педантичном следовании определённым нормам («на другой день ровно в двенадцать часов...») и т. д. Гробовщик мыслит своё ремесло как честное, равнозначное иным ремёслам и необходимое, как и они. «Чем ремесло моё не честнее прочих?» — рассуждает он вслух после пирушки у сапожника Готлиба Шульца. Характерно, что вне этого «жизнестроительного» профессионального ряда в рассуждениях гробовщика оказываются шут, «гаер святочный» (смех, как известно, в православной традиции сопутствует греху, дьявольское наваждение), и палач. Своё предназначение осмысляется гробовщиком в религиозном ключе: он работает на «мертвецов православных», басурмане смеются над смыслом его трудов (гости Готлиба Шульца в большинстве — протестанты, воспринимаемые здесь Адрианом Прохоровым неприязненно, как иноверцы, басурмане). Таким образом, цели существования русского ремесленника вписываются в традиционную для культуры русского среднего сословия картину мира.
В основе житейских представлений Прохорова лежит убеждение в том, что всё, что он предпринимает, должно приносить утилитарно-практическую пользу. Так, «он разрешает молчание разве только для того, чтоб журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих». Адриан знакомится с будочником Юрко из соображений, что в нём «рано или поздно может случиться иметь нужду»9. Он надеется возместить убытки за счёт похорон старой купчихи Трюхиной и даже в собственном сне заведомо лукавит: «побожился, что лишнего не возьмёт», обманывая того, кто «полагается на его совесть». При этом вопрос, оправдывает ли цель средства, перед ремесленником не встаёт, так как ответ заранее известен. Очевидна некоторая деформация христианских ценностей, обусловленная социально-историческими причинами. Прагматические цели (не раз отмеченные в исследованиях) преследовал гробовщик и в непривычном обустройстве нового дома, когда «кивот с образами, шкап с посудою, стол, диван и кровать заняли им определённые углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами».
Реалистическая мотивировка оправдывает такое их расположение: гостиная и кухня — казённое, рабочее помещение; душа жилища (красный угол с иконами) — личное пространство семьи гробовщика. Однако если исходить из веками установленных обычаев помещать иконы в красный угол, самое почётное место в доме (избе), перемена становится значительной: по существу, оказывается подверженной слому не горизонтальная (жизненная, бытовая), а вертикальная ось (ось духовного возрастания) в традиционной системе христианских координат: меняются местами не только вещи, но и устоявшиеся каноны православной веры.
Последнее обстоятельство сопровождается более существенной мысленной подменой: гордыня превращает его в собственных глазах ни много ни мало в творца своей обособленной вселенной. Яркое доказательство тому — скрытые мотивы этиологических мифов, заключающие в себе библейские ассоциации сотворения космоса из первозданного хаоса. Рассмотрим их.
В данном контексте суматохе дважды противопоставлено слово-антоним порядок: «строгий порядок», «порядок установился». Сообщение об обустройстве нового дома содержит конструкцию со страдательным причастием «им определённые углы», косвенно указывающую на повеление некоторой абсолютной воли (Адриан приписывает её себе). В этом смысле показательно также выражение «разрешал молчание», употреблённое повествователем в ироничном ключе, но содержащее подспудную самохарактеристику субъекта действия как высшей силы. Бессознательное самоотождествление героя повести с творцом подтверждается также аллюзией на заключительную стадию Сотворения мира в Библии. Адриан обходит своё жилище пред тем, как сесть за самовар; выпивает седьмую чашку чаю (после чего следуют три удара в дверь — и новый виток развития действия).
Подобного рода самоощущение — лишь одна сторона деформации православного сознания: гордыне сопутствует уныние. Адриан переживает духовный кризис, связанный с резким изменением привычного круга жизненных обстоятельств. Прохорова ждёт новый район, новый дом, другие потенциальные заказчики, другое ремесленное и чиновное окружение. «Старый гробовщик чувствовал... что сердце его не радовалось». Суматоха в новом жилище («жёлтом домике») вызывает ностальгию по «ветхой лачужке». Усиливают душевную смуту экономические проблемы: расходы, связанные с покупкой дома, убыток, нанесённый ритуальным атрибутам проливным дождём. Возникают ассоциации со Всемирным потопом. Житейские неурядицы вызывают уныние — «печальные размышления» — предвестие сомнения героя в целесообразности Того, Кто устроил мир за пределами дома гробовщика (истинного Творца жизни — Бога). Они усиливаются, когда сам Адриан формулирует оксиморонное положение: «Нищий мертвец даром берёт себе дом».
Налицо два эмоционально-смысловых плана образа (условно назовём их редуцированными формами «демиурга» и «Гамлета», вечных архетипов человеческой культуры). Пиком совмещения этих «ликов» героя, высшей точкой наивной рефлексии о сверхзначимости своего я и наивного, пусть бессознательного, противостояния Богу является монолог Прохорова после новоселья у Шульца. «Гробовщик пришёл домой пьян и сердит», — пишет Пушкин. Изменённое состояние сознания — опьянение — в этой ситуации провоцирует бессознательные и / или глубинные внутренние устремления. Обиды, связанные с неудовлетворённостью социальным статусом-кво (как он определился на вечеринке, особенно после шутки Юрко о здоровье мертвецов, клиентах Адриана, и смеха собравшихся ремесленников), как нам представляется, не являются ведущими мотивами весьма сомнительного желания — пригласить на новоселье мертвецов. Скорее всего, следует говорить о сложном комплексе психологических и мировоззренческих причин, вызвавших предложение попировать в кругу необычайных гостей. Попытаемся очертить круг этих мотивов.
1. Впервые возникшие сомнения в общественной значимости своего дела — как она определена от века, в его смысле и целесообразности. «Чем ремесло моё нечестнее прочих?» — этот вопрос не кажется риторическим, он обращён не только, а может быть, не столько к собратьям по цеху, но к себе, к высшим силам, к Богу.
2. Претензии на роль всемогущего «хозяина» там, где Адрианом осуществляется его профессиональная деятельность, при этом обращение «Милости просим, мои благодетели... » — лишь внешняя форма уничижения, скрывающая истинные амбиции ремесленника.
3. Неявный протест против устоявшихся христианских канонов (грех с христианской точки зрения; вспомним реплику работницы: «Что ты, батюшка?.. Что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мёртвых на новоселье! Экая страсть!»).
4. Бредовое приглашение «благодетелям» попировать, желание угостить их чем бог послал выступает как особая форма психологической компенсации гнетущего осознания неизбежности своей смерти, субъективного желания обессмертить своё существование. Особые возможности в этом смысле скрыты и в предполагаемой форме общения с потусторонним — пире (известно, что жанр симпосия (пира) — архаичный ритуал — был одним из излюбленных в поэтике Пушкина). В пиршественном ритуале есть определённая возможность проявить себя как значимую личность в ряду — или вне ряда! — себе подобных. Не случайно, думается, фамилия героя производна от греческого по происхождению имени Прохор (буквально: «тот, кто перед хором», запевала).
Восстановить миропорядок по собственному соображению — значит восстановить, нарушая его. Отчётливо эти, говоря условно, деструктивно-теургические амбиции определятся в «Пиковой даме» у Германна, который захочет подчинить себе судьбу, державные законы жизни.
Сон (один из ведущих у Пушкина приёмов поэтики, обычно воплощающий действие скрытых и могущественных сил мироздания) вводит в повествование глубинные пласты субъективной реальности героя повести. Страх, ужас, потеря присутствия духа — таковы эмоциональные обертоны, сопутствующие «общению» Адриана с мертвецами. Казалось бы, вторая часть сна — явившиеся мертвецы — несёт с собой выраженную инфернальную окраску и свидетельствует о готических традициях в повести. «Что за дьявольщина?» — думает герой. Однако семантика этой части вовсе не ограничивается явлением демонической силы: мотив воскрешения мертвецов вновь сообщает повествованию эсхатологический смысл, мощно и настойчиво призывая читателя переживать вместе с героем ощущения предстоящего на Страшном суде, несущего бремя ответственности за земные грехи. Безусловно, этот смысл придают отрывку и ропот справедливого негодования, и косвенные обвинения в обмане в адрес гробовщика Петра Петровича Курилкина. Имя этого покойника семантически ёмкое. Дважды «оглашается» имя одного из апостолов Христа, привратника у райских дверей. Конечно, имя это звучит вне эсхатологического контекста, но опосредованно подчёркивает праведный характер «суда». Оксиморонной эту выразительную деталь текста делает следующее обстоятельство: Пётр (в дословном переводе «камень, каменный») «пошатнулся, упал и весь рассыпался» от толчка Адриана Прохорова.
Это кульминация не только сновидческой части сюжета, но и, пожалуй, сюжета всей повести. Накал напряжениятаков,что герой, оглушённый криком мертвецов — товарищей Курилкина и почти задавленный ими, теряет присутствие духа, лишается во сне чувств.
Далее следует пробуждение героя. Вслед за современными исследователями не согласимся с мнением Б.Эйхенбаума, который считал, что «развязка возвращает нас к тому моменту, с которого началась фабула, и уничтожает её, превращая рассказ в пародию»10. Ещё раз обратимся к эпизоду пробуждения. Уже проснувшийся Адриан ожидает последствий ночных приключений. Вновь восстанавливается причинно-следственная связь явлений в сознании Прохорова, в значительной мере — благодаря диалогу с работницей Аксиньей. По всей видимости, героем пережит духовный кризис. Однако говорить об окончательном благостном, умиротворённом состоянии духа героя, о возвращении к нему христианских добродетелей (такое предположение высказывают некоторые исследователи 11) текст пушкинской повести не даёт основания. Финал повести несёт смысловую открытость. Определённо можно сказать лишь одно: их — в противоположность Адриану — лишена героиня, наделённая ясным и простым взглядом на вещи. Это всё та же работница Аксинья, чьи немногочисленные реплики свидетельствуют о свойственных ей традиционных христианских представлениях. Заметим, что этимологически Аксинья — от греческого гостья, чужая12. В этом имени — и неявное противопоставление демиургическим амбициям гробовщика, и намёк на христианское представление о временности земного существования.
Следует сказать, что в первоначальном варианте «Гробовщика» вместо дочерей Адриана фигурировали работники, а Шульц праздновал не серебряную свадьбу, а годовщину своего переселения в Россию. Пушкин, внося соответствующие изменения в параллельных образных структурах (немцы — русские), сделал более интимными миры двух ремесленников, привнёс в повествование обострённо-личностный пафос. Немецкий строй — как он явлен в изложении вымышленного повествователя — не подвержен внутренним «тектоническим» процессам; в миро- видении же русского человека, обычного гробовщика, ощущаются драматические, высшего порядка вопросы о цели и смысле существования. Наивная теология ремесленника как раз и заключалась в подспудном осмыслении этих важнейших в жизни человека вопросов. Устроение семейного лада после грозногосна, картина гармонии, поутру установленной в доме Адриана Прохорова, даёт повод обратиться к мыслям о Божественной Благодати, понять пушкинскиий взгляд на благоустроение жизни человека в самом загадочном произведении «Повестей Белкина».
ПРИМЕЧАНИЯ
1 ТРУБЕЦКОЙ С.Н. Эсхатология // Христианство: Энциклопедический словарь: В 3 т. / Ред. колл.: С.С.Аверинцев (гл. ред.) и др. — М.: Большая российская энциклопедия, 1995. — Т. 3. — С. 268.
2 ТЮПА В.И. Анализ художественного текста. — М., 2009. — С. 217 и др.
3 БОЧАРОВ С.Г. О смысле «Гробовщика» // Бочаров С.Г. О художественных мирах. — М., 1985. — С. 60.
4 См.: КОРОВИН В.И. Пушкин и Кант // Литература. — 1998. — № 42. — С. 5—12.
5 См.: ЛОТМАН Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин. — Л.: Просвещение, 1981. — С. 182—183. («Пушкин приехал в Болди- но в подавленном настроении. Не случайно первыми стихотворениями этой осени было одно из самых тревожных и напряжённых стихотворений Пушкина “Бесы” и отдающая глубокой усталостью “Элегия”».)
6 См.: КОРОВИН В.И. Россия и Запад в болдинских произведениях А.С.Пушкина. «Моцарт и Сальери», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». — М.: Русское слово, 2013.
7 ПУШКИН А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. — М.; Л.: АН СССР, 1937—1949. — Т. 8/1. — С. 89. Далее ссылки на повесть «Гробовщик» приводятся по этому изданию.
8 «Пожелание мертвецам здоровья есть пожелание смерти живым. Такова крытая семантика существования гробовщика». См.: Бочаров С.Г. О художественных мирах. — М.: Советская Россия, 1985. — С. 66.
9 Немецкий учёный-славист В.Шмид видит в будочнике Юрко мистического посредника, медиатора: «Будочник... не кто иной, как прозаично-московский Гермес... проводящий людей из сего мира в потусторонний мир». См.: Шмид В. Проза Пушкина в поэтическом прочтении: «Повести Белкина». — СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1996. — С. 283.
10 ЭЙХЕНБАУМ Б.М. Проблемы поэтики Пушкина // Эйхенбаум Б.М.. Сквозь литературу. — Л.: Academia, 1924. — С. 167.
11 См., например: Шмид. В. Указ. соч. — С. 293.
12 Семантика и этимология имён определялась по словарям: Петровский Н.А. Словарь русских личных имён. — М.: Русские словари,1996; Словарь имён / Сост. Г.Квита. — М.: Кучково поле, 1997.
ЧЕРНЫШЕВА Елена Геннадьевна, директор Института филологии МПГУ, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы

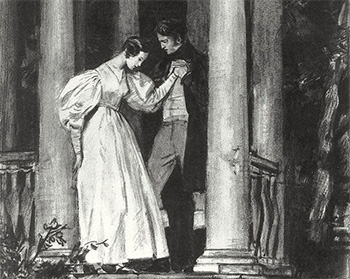




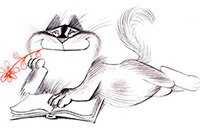
 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий