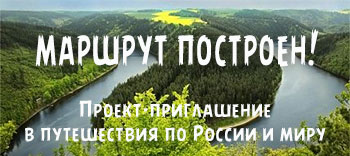Сорвина М. Островский – революция в русском театре
И. А. Гончаров в 1875 году пишет заметку «Опять "Гамлет" на русской сцене», посвященную исполнительской манере актера А. А. Нильского и не только. Сам текст Гончарова появился в периодике лишь в 1902 году – в газете «Новое время» (1902, № 9361). Таким образом, мы имеем дело не с газетной полемикой, а скорее – с размышлениями писателя об эпохе и людях.
Уличный колорит
Гончаров сетует на то, что русский театр, полностью подчинившийся притягательной стихии Островского, утратил «великие образцы», которым «во всех музеях живописи и скульптуры/.../отведены первые лучшие галереи». Автор пишет: «Господствующим репертуаром у нас теперь служит школа Островского. ...И артисты остаются доселе верными исполнителями ролей, не выходящих из уровня купеческой, крестьянской и мелкочиновнической среды. Нравы высшего по образованию, европейско-русского общества остаются почти неприкосновенными, ожидающими своего комика и трагика».
При этом Гончаров ни в коей мере не отрицает всех достоинств самого Островского: его пугает лишь размах, с которым драматург-новатор и изобилие его подражателей завладели российским театром - до этого традиционно дворянским и, конечно, романтическим. Со сцены практически исчез «высокий штиль», изысканноаристократический и воспитанно-интеллигентный репертуар и даже просто язык людей, образованных и наделенных высокодуховными переживаниями. Соответственно, молодые актеры в амплуа «jeune premier {первых любовников (франц.)} или удальца-франта» вынуждены довольствоваться жалкими ролями забитых приказчиков или скользких лизоблюдов.
«Где актеры для Шуйского, Самозванца, Марины, Минина? Их всех втянул в себя юмор типичных ролей купцов, мещан и т. д. обыденного великорусского быта. На сцене отвыкли говорить обыкновенным языком образованного общества», - восклицает Гончаров. На длительное время из русского театра действительно исчезли пьесы исторического и героического репертуара, а рыцарский плащ и фрак заменили кафтан и сюртук.
Недворянская порода
Островский дворянином не был. Его отец, сын священника, работал судебным стряпчим и получил дворянство только в 1839 году. Матери своей драматург фактически не знал: она, дочь пономаря и просвирни, умерла, когда мальчику было девять лет. Мать ему заменила мачеха - шведская дворянка, окружившая детей заботой и давшая им хорошее домашнее образование.
Не раз в литературных кругах возникает спор о том, нужно ли оставить писателя в покое и дать ему заниматься только литературным трудом, или же ему следует иметь и другую профессию, другую среду общения, чтобы получше узнать жизнь, набраться опыта. Островский - красноречивый ответ на этот вопрос. Отец хотел дать ему юридическое образование, чтобы сын и продолжил его дело, и добился большего, сделал карьеру. Карьеры Островский не сделал, но очень хорошо узнал проблемы купцов, мещан, лавочников, обращавшихся в суд или попадавших под разбирательства. Он привык к их несчастьям и семейным дрязгам, к их простому языку и метким выражениям, полным сермяжного юмора. Так сформировалась не карьера, но больше чем карьера - новая эпоха в жизни русского театра.
Вместо царей, вельмож, интеллигентов и гусаров на сцену вышел неуклюжий, бородатый и грубый дядька, частенько нетрезвый, разговаривающий, как извозчик, а то и похуже.
Вместо романтичных, меланхолически вздыхающих дам и барышень, начитавшихся иностранных романов, появилась вульгарная Липочка Большова - типичная выскочка. О таких говорят: «из грязи - да в князи». Она из крестьянского сословия, выбившегося в купечество, а деньги отца и модные развлечения изуродовали ее природу, превратили ее в посмешище. По словам свахи, «воспитанья-то тоже не бог знает какого: пишет-то как слон брюхом ползает, по-французскому али на фортопьянах тоже сям, тям, да и нет ничего».
Своеобразный язык персонажей Островского быстро завоевал публику. Это ли не забытые просторечия из уличных сценок, которые так радовали в эпоху скоморохов и встречались еще в «Недоросле» Д. И. Фонвизина («воровская харя», «Я те бельмы-то выцарапаю», «У меня и свои зацепы востры!»)? Со времен реформы литературной речи обиходные, а порой и уличные, полуграмотные выражения исчезли с театральных подмостков как нечто вульгарное, оказывающее дурное влияние на публику. А между тем сами-то они не исчезли, и большая часть населения продолжала изъясняться на своем языке - с просторечиями, жаргонизмами.
В ногу со временем
Страна медленно, но менялась. Это показал тот самый Гончаров, с которого мы начали повествование. Друзья «не разлей вода», обожающие друг друга Обломов и Штольц - это трагедия из романа Гончарова: они бы и рады дружить дальше, помогать и уступать друг другу, да историческая ситуация не дает. Обломов уходит из жизни, уступая место таким, как Штольц, - деловым людям, капиталистам. Наступило время торговцев, предпринимателей. Штольцу после смерти Обломова достаются даже его любимая женщина и его сын.
У Островского тоже на смену праздным мечтателям и влюбленным пришли нахрапистые купцы, торговцы. Разумеется, не сразу они пришлись ко двору.
Так, еще в 1847 году театральный цензор М. А. Гедеонов дал о пьесе «Семейная картина» следующий отрицательный отзыв: «Судя по этим сценам, московские купцы обманывают и пьют, а купчихи тайком гуляют от мужей». Это привело к тому, что 28 августа 1847 года комедия была запрещена к постановке.
Действительно, купцы у Островского выдавали замуж молоденьких дочерей и сестер за старых богачей, обманывали клиентов, напивались до бесчувствия, разговаривали таким языком, каким говорят лишь на улице. Даже великий актер М. С. Щепкин, известный своей естественностью и простотой исполнения ролей классического репертуара, поначалу отказывался играть в пьесах Островского. Непривычно это было, что ни говори. Но время неотвратимо наступало и на театр.
В России купцы набирали силу. Это были люди и новые, и старые одновременно - привносившие в феодальную жизнь капиталистические интересы, но, в то же время, приверженные консервативным ценностям и презирающие западные новшества. Они чем-то напоминали первых пуритан Америки - жили своей общиной по своим законам, семейная жизнь напоминала домострой, замуж выдавали строго за своих и на своих женили. Напомним: у Островского в «Грозе» Григория Дикого, брата Савела Прокофьича, мать лишила наследства за то, что женился на «благородной». Даже в одежде купцы критиковали новомодные пристрастия молодых - слишком откровенные наряды, которые с их точки зрения смешны, нелепы и неуместны.
Молодым людям Островского зачастую тесно и душно в этой старорежимной атмосфере. Они произносят патетические монологи, достойные высокой трагедии. Катерина в «Грозе» сетует, что «люди не летают как птицы». Похоже рассуждает и купеческий сын Андрей Титыч в пьесе «В чужом пиру похмелье»: «Крылья у меня ошибены, то есть обрублены, как есть. Уродом сделали, а не человеком. Словно угорелый хожу по земле. У нас так не водится, чтоб сын смел выбрать себе невесту по душе, значит, как следует; а привезут тебя, покажут, ну и женись. А коли скажешь, что, мол, тятенька, эта невеста не нравится: а, говорит, в солдаты отдам! Ну и шабаш! Уж не то что в этаком деле, и в другом-то в чем воли не дают. Я вот помоложе был, учиться захотел, так и то не велели».
Но гораздо чаще молодежь, увлекающаяся только новыми веяниями моды, развлечениями и бытом праздных дворян, проигрывает в этом споре поколений: не только потому что целиком зависит от капитала родителей, но и потому, что ничего дельного, толкового и образованного не может им противопоставить. Она у Островского беспомощна, вульгарна, эгоистична. Липочка («Банкрут») и Машенька («На всякого мудреца довольно простоты») мечтают лишь о танцах с гусарами. Петру («Не так живи, как хочется») скучно слушать отца и сидеть дома с молодой же- ной-скромницей. Но без опеки старших все легкомысленные герои утрачивают опору в жизни. Лишь следование морали, которой придерживается купеческая среда, выводит молодого человека на единственно возможный и приемлемый для него путь. Эта среда для молодого купца естественна, иная среда - чужда и враждебна.
Причем - что удивительно - в огромном драматургическом на следии Островского находится место и консерватизму, и протесту, и вульгарному, и высокому. Все это напоминает отлично приготовленный обед - здесь всего в меру, нигде не пересолено, не переслащено. Это не значит, что его мысль всегда и все понимали, но эмоциональная составляющая его пьес всегда была ясной.
Подражатели
У Островского, безусловно, была уже своя «школа» драматургов - то есть некое неформальное продолжение и следование его традиции. К драматургу, как некогда к А. С. Пушкину и В. А. Жуковскому, приходили не только молодые, но и старые литераторы. Так, С. А. Гедеонов, человек весьма влиятельный (директор Императорских театров), в 1867 году принес Островскому свою пьесу «Василиса Мелентьева». Самому Гедеонову его собственное творчество не нравилось, да и эту пьесу он не доработал. Островскому пришелся по душе сюжет, но он написал свою пьесу, переписав абсолютно все и не оставив ни одной реплики из текста Гедеонова. Вскоре романтическая пьеса Гедеонова с условными черно-белыми персонажами превратилась в историческую драму Островского с яркими и объемными характерами. При этом рядом с названием всегда упоминалось «при участии С. А. Гедеонова»: Островский был деликатным человеком.
* * *
Возможно, упоминая подражателей, И. А. Гончаров имел в виду популярного автора Сергея Осиповича Бойкова, водевили которого («Повеситься или утопиться», «15-летняя вдовушка», «Подставной жених») шли на сцене Малого театра вплоть до начала ХХ века и пользовались успехом. Но в его комедиях диалоги персонажей - бледная копия диалогов Островского: они пусты и даже не смешны:
«Ольга Павловна. Попрекнуть меня, что я много издерживаю на наряды!
Марья Васильевна (с восклицанием). Много!
Ольга Павловна. И все это по милости шляпки, которую я заказала у Вильман!
Марья Васильевна (сплеснув руками). Только из-за шляпки! О мужчины! Неблагодарные мужчины!»
(С. О. Бойков «Повеситься или утопиться»).
* * *
Вторым претендентом на роль драматурга «школы Островского» мог бы стать Виктор Александрович Владимирский. Он был старше Островского, но начал писать пьесы («Будущая любовь», «Слуга», «Кого любят, того и губят») почти одновременно с ним.
В пьесе «Кого любят, того и губят» (1874), казалось бы, поднимается важная проблема пьянства в зажиточной крестьянской среде: деревенский старшина Глеб, человек богатый, но честный и порядочный, овдовел и собирается выдавать замуж свою кроткую, преданную дочь, но попадает в руки хитрой трактирщицы, решившей споить его, женить на себе и подобраться к его хозяйству. Есть в пьесе Владимирского и народный язык, и тяготы крестьянской жизни, но нет той художественности стиля, того народного юмора, которым славились и комедии, и драмы Островского. Очевидно, тоскливая безысходность пьес Владимирского, их прямолинейность и простота интриги стали причиной их недолгой жизни в театре.
* * *
Пожалуй, самым известным преемником Островского считается драматург С. А. Найденов, ставший на российских сценах поистине долгожителем. Он популярен и по сей день.
В тот год, когда Гончаров написал свою заметку о засилии купцов на русской сцене, будущему драматургу Сергею Александровичу Найденову было всего шесть лет. Однако сходство его драмы «Дети Ванюшина» с пьесами Островского очевидно.
Перед нами вновь купеческая семья, в которой множество проблем. Ванюшины, несмотря на родство, «все врозь», как говорит сам глава семьи. Здесь все врут и скрывают свои скелеты в шкафу. Пьеса «Дети Ванюшина» не раз ставилась в разных театрах, и причиной успеха были, конечно, драматические коллизии, замешанные на любовных интригах: публика их любила в разные времена. Однако живость языка, присущую героям Островского, пьеса Найденова утратила. Фразы «Учились, да ничему, кроме фу-ты да ну-ты, не выучились» и «А ты и лба по утрам не перекрестишь!» претендуют на реалистичность, обытовленность, народность, но не более того. Исчезли разговорные словечки, просторечия, меткие выражения, насыщенные юмором.
О чем бы ни писал Островский, в его произведениях везде присутствовал комический контекст, свидетельствующий о вульгарной манерности одних и провинциальном невежестве других. У Найденова же в драме «Дети Ванюшина» всё мрачно, тягостно, безысходно и беспросветно, но главное - однообразно. Все люди - лжецы и лицемеры, а контекст - то есть улица, игравшая столь большую роль в произведениях Островского, - словно вовсе отсутствует. Одной из причин успеха и, в то же самое время, заурядности пьесы Найденова стало то, что все коллизии он списывал с собственной среды, с хорошо известных ему семейных обстоятельств, а это всегда накладывает отпечаток субъективности и натурализации в ущерб художественному решению.
Конечно, на это можно возразить, что и сам Островский считал, что «драматург не изобретает сюжетов»: «...Все наши сюжеты - заимствованы. Их дает жизнь, история, рассказ знакомого, порой газетная заметка. У меня, по крайней мере, все сюжеты заимствованные. Что случилось, драматург не должен придумывать; его дело написать, как оно случилось или могло случиться. Тут вся его работа. При обращении внимания в эту сторону, у него явятся живые люди и сами заговорят». Но, в отличие от других драматургов, его современников и последователей, свои сюжеты Островский строил, опираясь на постоянные путешествия и наблюдения. В его пьесах сразу виден зоркий глаз наблюдателя, этнографа, не упускающего ни одной детали, ни одного слова. Он побывал в самых разных уголках, и в его произведениях изображена практически вся Россия с ее душевностью и жестокосердием, обогащением и бескорыстием, людской молвой и внутренней свободой.

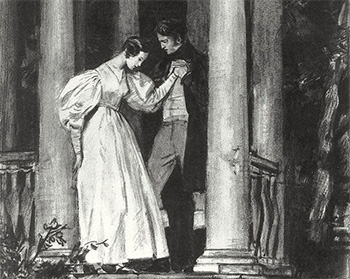



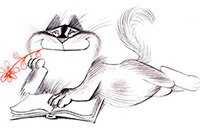
 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий