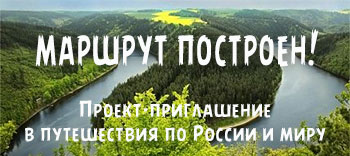Марков А. Державин, или Величие простой честности
Портрет одописца в образе баснописца
Особенность Державина, очевидная и небывалая, состоит прежде всего в том, что никогда не было «Державинской эпохи» русской литературы. Мы можем говорить «эпоха Кантемира» или «эпоха Ломоносова», тем более мы говорим о пушкинском и гоголевском периодах русской литературы. Единственным критиком, без обиняков говорившим об «эпохе Державина», был Владислав Ходасевич - он реконструировал державинский одический дух, дух «золотого века» Екатерины II, чтобы показать: без Державина не было бы Пушкина, как бы завершающего эту эпоху самым лучшим аккордом. Но Ходасевич говорил из своей ситуации - ситуации парижского эмигранта, прямого наследника символизма и его непримиримого критика. Ему нужно было показать: подобно тому, как «золотой век» может быть собран из хозяйственных достижений в области литературы, опыта работы со словом, словарем, техникой речи, выражения и предметности, - так же точно можно собрать и новый век из журнальной суеты, новых персонажей, критичности и тактичности. Как Пушкин сделал все это хозяйство Державина одухотворенным и умным, так и Ходасевич стремится сделать свой век, который он не называет Серебряным, предметом продуманной и в меру отвлеченной рефлексии.

Но если исключить Ходасевича, для нас Державин предстает в образах эпохи, встроенный в живые картины. Вот он - воин, участник возведения на престол Екатерины II, честолюбивый и доверчивый, каким и полагалось быть тогда обязанным службе дворянам. Вот он - тамбовский губернатор, создавший в собственном доме училище и театр по соседству, в полном соответствии с тогдашними придворными обычаями, когда обучение не отделялось от вхождения в высшее общество. Вот он - сам жертва обычаев екатерининского времени, когда его много раз подводили подчиненные, - человек сурового воспитания в молодости, он не мог привыкнуть к тому, что дворяне смеют быть недостаточно строгими к себе. Вот он подбирает виньетки к своим стихам, чтобы превратить их в необходимую часть символического освоения мира, чтобы подчинить смыслам бытия гражданскую и частную жизнь. Вот он уходит в отставку по воле Александра I: и «либерализм», и «консерватизм» царя слишком поспешны, и Державин кажется на фоне новых идей уходящей натурой. Вот «старик Державин нас заметил», полотно Репина в нашем учебнике литературы на странице биографии Пушкина, где гений места встречает другого гения места, и старший усматривает в младшем счастливца. К этим живым картинам можно прибавить еще десяток или два, и о каждой из них подробно рассказать.
Но нас интересует другое: что Державин сделал для русской поэзии, что востребовано в каждом поколении поэтов?
Здесь можно начать с общей репутации Державина: при жизни его чем дальше, тем больше сравнивали с Горацием, и сам он был не против такого сравнения. Но если он в чем- то и похож на великого римлянина - судьбой придворного поэта, то совсем не похож на него ни темпераментом, ни мировидением. Гораций - поэт золотой середины, он требует во всем соблюдать меру, не тревожиться о будущем и укрощать собственные чувства. Державин - поэт предельного опыта, гнева и милости, правосудия и отчаяния, созидательной воли и неимоверного счастья, всего того, что Гораций не счел бы подходящей темой для поэзии, разве что - для ораторского искусства.
Далее, Гораций очень лично воспринимает не только свою судьбу, но и весь мир: Рим и деревня, одинокая прогулка и пирушка, опасный лес и приятный грот - все это места, где разыгрываются сугубо личные драмы, где личное прямо видится как самое главное в этих местах, как то, что вовлекает вещи, обстоятельства, память места и его чаяние в любовное приключение или урок скромной добродетели. Дети иногда обижаются на предметы; а вот если представить, что кто-то, напротив, всецело радуется предметам, - это будет Гораций.
Державин же различает мир, который живет по своим законам, описанным в Библии и летописях, и личную судьбу, где остается место и обидам, и гневу, и беспредельной радости. Но это не романтическое двоемирие, а то, что правильнее было бы назвать различием методов, наподобие того, как биолог и химик работают с одним объектом, но совсем по-разному. Так и Державин может видеть одну скалу, но как часть личного опыта она будет напоминать о возможности крушения жизненных планов, а как часть общего опыта - о нерушимости планов Божиих. Композиционной задачей одописца оказывается тогда соединить две науки в одну.
Так мы понимаем, чем все же похож Державин на Горация, - неожиданностью морали, которая возникает не как обобщение, но на повороте изложения, как некоторое упрямство мира или личности: все равно буду воспевать возлюбленную, что бы мне ни грозило, потому что любовь выше случайных обстоятельств. Так и Державин: все равно буду говорить о добродетели, даже если не вижу ей достаточного числа подтверждений.
Поэтому если в ком и завершился Державин, то не в Пушкине, чья мудрость обобщает очень широкий и проникновенный моральный опыт, а в Крылове, который дает мораль, не покрывающую до конца поведения героев, - что и позволяет Крылову не давать типы, а сталкивать сложные характеры со своими «науками» об окружающем мире. Как показал Л. С. Выготский в классической книге «Психология искусства» (1924), Крылов не выводит мораль из ситуации, как баснописцы от Эзопа до Лафонтена, вроде решения математической задачи, но сталкивает ситуации разных персонажей со своим моральным обоснованием действия в уме каждого персонажа. Общая мораль басни оказывается и моралью искусства - указанием на ограниченность частных истин, когда можно и допустимо только поэтическими приемами оспорить как ложную риторику отрицательного персонажа, так и не менее ложную наивность или грубость как будто положительного персонажа. Только поэтическая мораль все это расставляет по местам.
Это можно показать на примере любой переводной оды Державина. Например, ода «Богатство» представляет собой перевод из античной анакреонтики, будто бы точный:
Когда бы было нам богатством
Возможно кратку жизнь продлить,
Не ставя ничего препятством,
Я стал бы золото копить.
Копил бы для того я злато,
Чтобы, как придет смерть сражать,
Тряхнуть карманом торовато
И жизнь у ней на откуп взять.
Но ежели нельзя казною
Купить минуты ни одной,
Почто же злата нам алчбою
Так много наш смущать покой?
Не лучше ль в пиршествах приятных
С друзьями время проводить;
На ложах мягких, ароматных
Младым красавицам служить?
Но в приписанном Анакреонту античном стихотворении не дано характера приобретателя, он не может «тряхнуть карманом торовато», он просто заранее рассчитывает, сухо и отвлеченно, сколько накопить для того, чтобы выкупить еще много лет жизни. Он не показан в конкретный момент встречи со смертью, такой сцены нет, есть только остроумный расчет, который опровергается самим общим знанием, самим порядком вещей. Здесь у Державина вдруг появляется очень личное отношение к жизни и смерти: не окажешься ли ты в нелепой позе перед смертью, не окажется ли твой театр нарочитым притворством?
Герой античного стихотворения как раз очень хорошо мыслит собственную судьбу: он знает, что накопление богатства сопряжено с рисками, волнениями, например, что твой корабль потонет или тебя уведут в плен разбойники. Но повествователь Державина не думает о реальных волнениях, а фантазирует именно здесь о том, что уже сама мысль о накоплении богатства для него тревожна. В ситуациях накопления богатства может быть много случайностей, и никогда нельзя тут вывести общезначимую мораль. Но из тревожности мысли у Державина выводима поэтическая мораль: гармония, в том числе гармония стиха, лучше любых земных успехов.
Ода в прижизненном издании снабжена виньеткой в конце, придуманной самим поэтом, как и прочие виньетки. Она изображает стрелу, опутанную цветами, с тем смыслом, что удовольствия не дают ей слишком далеко улететь, пресекают амбиции. Легче всего прочесть виньетку в горациевом духе: чем волноваться в большом мире, лучше воспитать в себе умеренность и знание настоящих наслаждений.
Но все же стрела рвется вперед, не слушая простой морали, а цветы не обязательно наслаждаются собой. Получается что-то вроде ненаписанной басни Крылова, где есть правота и у стрелы, которая стремится к лучшему, но и у цветов, которые спокойны и внушают нам мысль об удовольствиях. Только поэтическое переживание удовольствия, а не просто выбор одобренного друзьями образа жизни, примиряет эти две правды характеров: показывая, что настоящее удовольствие тоже в чем-то самоотверженно и требует решительности, ведущей к невидимой, неведомой и тем более реальной гармонии.
Честная гармония, гармония, отдающая честь
Что создал Державин - сложную композицию. Иногда эта композиция почти предвосхищает некрасовскую:
Орудье благости и сил,
Господня дщерь, Его подобье,
В которой мудро совместил
Он твердость, кротость, ум, незлобье
И к благу общему любовь,
О доблесть смертных! Добродетель!
О соль земли! - хоть сонм духов,
Разврату нравственну радетель,
И смеет звать тебя мечтой.
Имя той, которая названа одновременно орудием и любимым подобием Божиим, появляется в шестой строке. Противоречивые характеристики, списком: «ты и убогая, ты и обильная» - стали известны русской культуре из Некрасова, но на самом деле - из Державина. Слово «барокко» только запутывает дело, просто в процитированных строках это - единственный способ построить героя («вот и вышел человечек»), который имеет свою функцию, свои навыки, свой характер, а посему и начинает действовать. Некрасову надобно было, чтобы так начала действовать страна, новое поколение ее мыслящих людей. Державину достаточно, чтобы так начала действовать добродетель, равнодушная к своим хулителям, завистникам и просто развращенным телом и умом современникам.
Да, природа у Державина, как заметил Аверинцев, всегда неравнодушна. Но при этом равнодушна, в смысле беспристрастия достигнутой гармонии, высшая справедливость, достигаемая аскетическими усилиями, к которым может в свое время присоединиться и природа. Вспомним стихотворение Державина о волшебном фонаре. Этот фонарь показывает чудеса Господни, например, льва и павлина, мы привыкаем видеть эти чудеса во всей их красе, являемые и предъявляемые нам. Но тут же оказывается: Всевышний не только щедр, но и справедлив, потому что сменяет кадры, не давая никому превозноситься, низлагая неправедных судей и высокомерных грешников, просто меняя стекло перед объективом за одно мгновение. Тем самым мы привыкаем и к правосудию. Эта перспектива была утрачена в позднейшей поэзии - для Баратынского смерть не позволяет природе слишком разрастить и заглушить смысл, но у него нет вот этого образа Правосудия или Добродетели, который оказывается для Державина интереснее образа смерти:
Почто ж, о смертный дерзновенный,
Невежда средь своих наук!
Летая мыслями надменный,
Иль ползая в пыли, как жук,
Бежишь ты счастья за мечтами,
Толь преходящими пред нами,
Быв гостем, позванным на пир?
Не лучше ль блеском их не льститься;
Но зодчему тому дивиться,
Кто создал столь прекрасный мир?
Поэтому в конце мы и приходим к поэтической морали: мы знаем теперь, как работает этот фонарь и почему в нем меняются кадры. Это знание правил оказывается и знанием того, что и природа, и свет, и оператор фонаря могут внести свой вклад в понимание справедливости. Столкновение двух сюжетов, двух противоположных планов, как говорил Выготский, демонстрации кадров и восторгов публики открывает поэтическую мораль той прямолинейной справедливости, которая почти что естественна:
Так будем, будем равнодушно
Мы зрительми его чудес;
Что рок велит, творить послушно,
Забавой быв других очес;
Пускай тот управляет нами,
Кто движет солнцами, звездами;
Он знает их и наш конец!
Велит - я возвышаюсь.
Речет - я понижаюсь.
Сей мир - мечты; их бог творец!
Как показала Татьяна Смолярова в своей проницательной книге, Державин показывает необычное природное или культурное явление и всегда объясняет его частично, потому что надобно поскорее перейти к действию. Люди, в том числе невидимые персонажи и собеседники, ждут действия. Но в этом сила Державина; и Смолярова показывает, как за любой чувственностью стоят люди, а не развитие чувств. Так, за чувственностью «радуга» стоит Апеллес, мастер замешивать краски и передавать естественные оттенки, но стоит и правитель, которого благословляет радуга, как античная вестница-Ирида или как библейский символ мира.
Поэтому в художественном мире Державина, заметим, может быть что угодно, но не может быть типологизации: чья-то страсть или чье-то ожидание - адресата или читателя - неизбежно выламывается из этой типологии вместе с любимыми предметами и мотивами. Волшебный фонарь, как выяснила Смолярова, мог быть спрятан и за белым экраном, скрытый как суд Господень.
Но был конгениальный Державину его современник, митрополит Платон, для которого и правила заповедей, и закон суда требуют не просто быть честным, но отрекаться от прежних привычек ради привыкания к честности. Вот как митрополит пишет о корыстных людях, даже если они зарабатывают средства только честными путями: «Действуют они, но не постигают (то есть не достигают цели); подвизаются (совершают подвиг), но лишаются венца (награды), не потому, что будто бы мало подвизалися, но потому, что не так действуют, как требует правило добродетельного подвига и закон честности». Эти люди честны с собой, но неравнодушны к своей честности, они манипулируют своей честностью, посему оказываются только карикатурой в волшебном фонаре богословских толкований. Вероятно, только несколько устаревший язык мешает читать параллельно Державина и митрополита Платона.
Прикосновение к зажившим ранам
Филолог Татьяна Зверева показала, что Державин, видя мир, видит всегда ближайшую обстановку, прикасается к ней и тем самым излагает едва ощутимые жесты и реакции тела как отдельный сюжет. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить оригинал Шиллера «Лаура за клавиром» и перевод Державина «Деве за клавесином». У Шиллера - частный язык чувств и удивлений, каприз чувства, позволяющий убедиться косвенным путем, что человеческая природа умеет не только капризничать. У Державина - универсальный язык тела, души и самой судьбы, самой музыки, всего, что мы оплачиваем годами нашей жизни, а то и большей частью нашей жизни. Музыка прикасается к нам, судьба прикасается к музыке, и в этом почти вся наша жизнь.
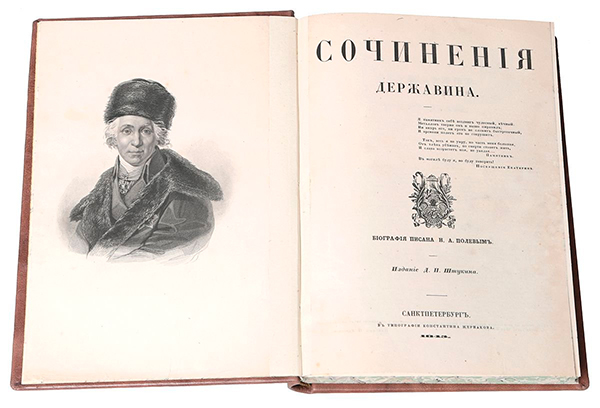
Это означает, что тот самый «протокрыловский» сюжет столкновения личных метаморфоз и метаморфоз соседнего мира (бытового, властного или религиозного) вдруг разрешается в поэтической морали. Эта мораль - мораль гармонии слуха и взгляда, внимания к ближнему, запрещающего даже мнимо честную корысть. В том числе - корысть выбора специфически поэтических предметов. Аверинцев блестяще заметил, что Державин настолько доверчиво видел в поэзии дар, а не ремесло, что полностью отказался от разделения на высокие и низкие для поэзии предметы, что было аксиомой для Ломоносова и его современников. Но такой отказ как раз понятен социально: во времена Ломоносова дворянин мог выдвинуться наверх и мог попасть в опалу, значит, контраст миров был таким, что от тюрьмы и от сумы не следовало зарекаться, как и полагалось приходить в восторг, когда твой зарок оказался оправдан и ты стал первым мастером наук и искусств. А при Екатерине II, создавшей первичную эпоху Державина, опалы закончились - личная месть императрицы Александру Радищеву и епископу Арсению Мацеевичу запомнилась как исключение.
Как заметила Зверева, новой эпохе отвечает не поэт-Архитектор, а поэт-Музыкант, стоящий ближе всего к мировой гармонии. Для этого поэта любой соседний мир - действительно соседний, будь то, как мы сказали, бытовой, властный или религиозный. Поэтому Державина почти невозможно пародировать, если пародировали, то его эпигонов, как это сделал Панкратий Сумароков, внучатый племянник славного Сумарокова, жертва интриг, ссыльный и редактор тобольского журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену»:
Сквозь бело-черно-пестро-красных
Булано-мрачных облаков
Луна, стыдясь гостей толь ясных,
Не кажет им своих рогов
И, мертво-бело-снежным цветом
Покрывшись перед солнца светом,
На небе места не найдет.
Ветр юго-западно-восточный
Иль северо-студено-мочный
Ерошит гладкий вод хребет.
В этой пародии есть сложный театральный сюжет: за стыдом следует метание, а после - страх как послевкусие. Но у Державина нет послевкусия, у него, как сказал Аверинцев, есть все, но нет пресыщенности. Когда соседних миров много, легко хватить лишку, - но Державин не был легкомысленным.
Для поэзии от Пушкина до наших дней Державин - не учитель и не наставник, но, скорее, страж стилей, учащий уклоняться от излишеств даже в самом свободном разговоре. Пушкин был гением свободного разговора, заменив общие места коротких разговоров на общеизвестные стили: «Онегин жил анахоретом» - в одной строке сталкиваются стилистически и ода, и духовное размышление, и вольтерьянское издевательство, и байронические контрасты и маски. Но нет никакого нарушения чувства меры, что, конечно, говорит об усвоении Пушкиным уроков Державина, при всем его отказе от риторических общих мест.
В поэзии последнего полувека Державин появлялся по-разному. Например, переход Андрея Вознесенского в 1970-е годы от описательных экспериментов нового авангарда к внутреннему драматизму - путь от Ломоносова к Державину. Елена Шварц, начав с неоклассицистского «Подражания Буало», также пришла к совершенно державинским образам, вроде: «Боже сил, для Тебя человек - силомер», «Суворов» Сергея Стратановского, «На смерть Жукова» Иосифа Бродского - примеры державинских од. Но это - Державин, увиденный через призму Пушкина: столкновение самых невероятных стилистических регистров и аллюзий одновременно с убежденностью в том, что только истинный поэт воспоет истинного полководца, - над тем, истинный ли он поэт, Державин не думал так много, как стали думать поэты после Пушкина.
Эти примеры можно множить, но в том, что и в современной поэзии есть не столько державинская линия, сколько державинская граница, нет сомнения. Мы выходим на эту границу, сразу оглядываемся на себя, и, может статься, наша жизнь становится хоть немного гармоничнее.
Марков Александр Викторович, литературовед, философ, искусствовед, культуролог, доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета.







 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий