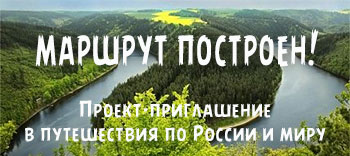Пырков И.В. «Туда не все доберутся...». Готовясь к путешествию по русской усадебной литературе
Аннотация. В статье предпринимается попытка панорамного взгляда на историю русской усадебной литературы, намечается маршрут возможного путешествия по её «узловым пунктам» вместе со школьниками. Одновременно поднимаются вопросы, сама постановка которых позволяет по-новому оценить феномен «усадебного текста», выявить его смысловые и морально-нравственные, этические связи с современностью.
Ключевые слова: усадебная литература, Дом, Русский Сад, родство, Гончаров, Тургенев, Чехов, пространство и время, наследие, право памяти.
Abstract. The article attempts to take a panoramic view of the history of Russian manor literature, emphasizing its “key points” for students. The questions are raised in order to evaluate the phenomenon of the “manor text” in a new way and to reveal its semantic, moral and ethical connections with the present day.
Keywords: “manorliterature”, home, Russian garden, kinship, Goncharov, Turgenev, Chekhov, space and time, heritage.
Подобно легенде о древней неохватной ели, посаженной пушкинской рукой в Языкове, русская усадьба, укоренившаяся в национальной нашей почве так давно и надёжно, так основательно, что, кажется, и на пустом месте, и на пустыре, среди чертополошьих голов, возникает порой видимая лишь духовным зрением её проекция, поднимаются её кровли и башенки, срастаются, из-под земли восставая, колоннады, гостеприимно распахиваются её парадные двери и приоткрываются её тайные калитки, пробегают по её садам весёлые солнечные тропинки и уводят в таинственную глубину её парков «боковые аллеи», — и вот, восстанавливаясь вдруг в нашей памяти, не столько уж личностной или даже поколенной, а скорее исторической, усадебное чудо снова и снова возвращает наш взгляд к пластам глубокозалегающим, защищённым самим временем от предвзято-тенденциозных истолковок: род, родовое древо, поколенная роспись, крыльцо отческого дома, уподобленное колыбели, о чём у Ивана Гончарова так замечательно сказано, само наше изначалье, и, в конце концов, сама наша родина.
Постепенно, через боль и стыд, через заскорузлые преграды равнодушия, но мы всё- таки движемся к осознанию правоты Дмитрия Сергеевича Лихачёва, ещё в прошлом веке настаивавшего на том, что «пейзажи России должны быть учтены», и выдвинувшего универсальную не столько формулу даже, сколько программу действий, заложенную в простом на первый взгляд определении: «охраняемый пейзаж»1.
Подумалось: как недалека, по календарному счёту, эта нравственная форма от того времени, когда в порядке вещей было взрывать стены, например, Симонова монастыря, под которыми покоился прах великой Акса- ковской Фамилии. И как далека — космически далека — вместе с тем. И всё-таки нам, живущим в XXI веке, ещё только предстоит приблизиться к пониманию того, что «охраняемый пейзаж», — разумея под ним и Куликово поле, и Бородино, «и заливные луга по Десне Новгорода-Северского», как пишет Дмитрий Сергеевич, и Щелыково, и Берендеев лес, и Бабкино, куда Чехов позвал соседствовать «Тесака Ильича», то есть Левитана, и аксаковский дом в Абрамцеве, и Мелихово, и Спасское-Лутовиново, и Ясную Поляну, — эта не объект охраны, упрощённо говоря, а наша с вами охранная грамота. Оберег для наших детей и потомков. От языковской усадьбы (с её прудами рядышком пульсируют родники притулившейся к Карсунским лесам Прислонихи, где в мастерской народного художника Пластова сохранны не просто холсты, подрамники и тюбики с красками, а сам неброский колорит средней России) тянется незримая нить к священному для отечественной духовности Михайловскому.
Да, усадебные страницы стали неотъемлемой частью «энциклопедии русской жизни», впервые, может быть, в нашей словесности обрели масштаб национальной панорамы, выразили существо национального характера именно у Пушкина, и Зоя Космодемьянская — случайно ли, осознанно ли — назвала себя перед лицом смерти и перед лицом попирающих родную землю — Таней. Но и до «Евгения Онегина», до разрастания корневой системы карамзинского дуба, венчающего финал «Бедной Лизы» (сохранно предание и об истории этого величавого древесного царя), до того, как скворец Лоренса Стерна обжился на русской почве, в древнерусской ещёлитературной традиции, во Вселенной русского Сада, по мысли всё того же Лихачёва, усадебный духовный фундамент, неразъединимый с «охраняемым пейзажем», с васнецовскими васильками, с левитанов- ской грустью, с мусатовской сиренью, с пла- стовским чернозёмом, уже закладывался, уже становился силой нашей и крепостью нашей. Лиза в повести Карамзина отвечала тем, кто хотел купить цветы, что «они непродажные», оставляя красоту подмосковных ландышей для Эраста. Для неё цветы и любовь — едины. И где-то на горизонте, на дальнем, но таком важном, духовно значимом плане карамзинской истории виднеются Воробьёвы горы и село Коломенское. Воробьёвыми — и снова же, коли верить преданию, — горы назывались потому, что были сплошь засажены вишнёвыми садами и множество птиц прилетало туда на свою трапезу. Усадебная литература, входящая в рост с «Бедной Лизы», достигла вершины в последней чеховской пьесе. Так что «Вишнёвый сад» Чехова незримо породнён и с Воробьёыми горами, и со «златоглавым Даниловым монастырём», самым древним монастырём Москвы, основанным князем Даниилом, сыном Александра Невского, и с Коломенским. Вспомним, как писал об этом уникальном историческом месте поэт Борис Чичибабин:
Всё, что мечтала услышать душа
В всплеске колодезном,
Вылилось в возгласе:
«Как хороша Церковь в Коломенском!»
Лиза Калитина из тургеневского «Дворянского гнезда», самая, может быть, загадочная и необъяснимо прекрасная героиня всех русских усадебных романов, любила цветы сердечно, и не потому ли, что нянька Агафья, в детстве ещё, сказывала ей «мерным и ровным голосом» про «житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц»; говорила она Лизе, «как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, — и царей не боялись, Христа исповедовали; как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы вырастали». Не среди тех ли цветов пролегает путь Лизы Калитиной к монастырским вратам, не с приоткрытой ли в мир духовного восхождения усадебной калитки начинается он?
У мудреца Пришвина есть такое замечательное выражение, промелькнувшее ненароком, кажется, в его дневниковых записках: «Неоскорбляемая часть души». Историческое пространство русской усадьбы, понёсшее по объективным причинам, да и просто по нашему извечному небрежению к тому, что имеем, и особенно в культуре, в сфере мысли и духа, потери невосполнимейшие, утраты наитяжелейшие, начинает сегодня по крупицам собираться и восстанавливаться. И как раз процесс этого воссоздания есть процесс восстановления нашей, в национальном масштабе, в масштабе российской культуры, неоскорбляемой части души. Процесс, названный выдающимся современным историком искусства Константином Шиловым «восстановлением родства»2. И то, что выходят книги-открытия, подобные уникальным трудам-свершениям Ю.Лощица, В.Щукина, В.Мельника, М.Нащокиной (автора замечательного исследования «Русская усадьба Серебряного века»), что не оскудевает парк культурно-просветительских журналов, посвящённых усадебному миру и отечественному культурному наследию в целом (здесь и «Наше наследие» можно привести в пример, и «Литературу в школе», где лейтмотивом звучит мысль о сохранении духовных национальных ценностей), что вновь ведёт непереоценную для будущего России работу Общество изучения русской усадьбы, — залог того, что от технического прогресса страны не отстанет, или, если быть реалистичнее в оценках, не так заметно отстанет и динамика нашего духовного роста.
«Райским уголком» называет Обломовку Иван Гончаров, и в читательской памяти сразу же возрождается «прелестный уголок», где когда-то «скучал Евгений», и загорается с новой силой взволнованное слово Чацкого: «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, / Где оскорблённому есть чувству уголок!» А не о том ли, «неоскорбляемом», уголке души говорит здесь Грибоедов и его герой, и разве не о тех же Лизиных (и карамзинских, и тургеневских — преемственность очевидна) — «непродажных» — цветах речь? И больше. Разве не о том же у Валентина Распутина в «Прощании с Матёрой»: «Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятёнком. Сидели молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасьей, которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто всё искала и не могла отыскать себя — ту, что должна уезжать».
Русская усадьба сегодня—это сфера пристального исследовательского интереса, в истории её зарождения, расцвета, заката и разрушения ищут ответы на вопросы далеко не только былого, пытаясь увидеть на фоне усадебного пространства и времени — день сегодняшний, день завтрашний. И потому духовный остов русской усадьбы не просто бесстрастно анализируется, подвергается «объективному анализу», но становится ещё и полем идейной борьбы, ведущейся упорно, может быть, даже отчаянно. Борьбы за определение нашего исторического предназначения, за право памяти, за право национальной самоидентификации и духовной независимости, за историческую репутацию отечественной дворянской культуры в частности и национальной культуры — в целом. А поскольку в русской усадебной литературе XIX века нашли отражение все столбовые бытийные (статические) установки и главные динамические противоречия дореформенной и пореформенной России, именно интерпретация «усадебных текстов» (термин В.Щукина)3 превращается в толкование отечественной ментальности в её исторической проекции. При этом пространственно-временная проблематика, подобно концентрическим кругам, широко расходящимся по глади усадебного озера, соприкасается с вопросами самого широкого тематического, идейно-содержательного, мировоззренческого спектра.
Пространство усадьбы — это обиталище муз, рафинированное и никак не соприкасающееся с действительностью? Или ковчег жизни? Европеизированный, сопряжённый с комфортом коттедж, как полагает Василий Щукин относительно усадебных моделей тургеневских романов? Или «дворянское гнездо», неотделимое от национальной почвы,проникну- тое близостью Оптиной Пустыни? Идея усадебной жизни — в отгороженности, в изолированности, в создании некоего заповедного круга для избранных? Или — в принципиальной открытости, в совмещённости со всеми болевыми точками и узлами текущего времени? Усадьба как таковая начинается с Указа Петра III 1762 года «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству»? Или — гораздо раньше, с осознания философии русского сада (Иоанн Экзарх в «Прологе» к «Шестидневу», как подчёркивает Лихачёв, опираясь на труды «Ильи Муромца русской истории» Ивана Забелина, «на одном из первых мест после неба с его солнцем и звёздами указывает сады»)? Что стало светочем русской усадьбы — сияющее европейское Просвещение с его рационализмом и индивидуализмом? Или золотой круг отечественных любомудров — Хомякова, Киреевских, Аксаковых? Штольцевский прогресс, «заря нового счастья», или солнце Обломова, «золотая рамка жизни», обломовская идиллическая мечта о возвращении? И тогда такой вопрос: как подходить к фигуре Обломова, занимающей не только в пространстве романа, но и во всей русской литературе золотого столетия чуть ли не центральное положение? От обломовщины, синонимичной лени, апатии, болезни «застарелого младенчества», социально-историческому, в национальном масштабе, инфантилизму (Е.Краснощёкова, В.Кантор), к Обломову — личности неисчерпаемо сложной и противоречивой, хотя и погубленной обломовщиной. Или есть иной, ещё не испробованный исследователями путь — от Обломова, с учётом всей непомерной глубины и широкой обобщённости его типа, к обломовщине — стихии, его породившей и наделившей его душу заповедным простором берёзовой рощи?
Как пространство усадьбы превращалось в пространство дачи, каков был сам механизм экспансии городских границ — процесс, духовные последствия которого с потрясающей художественной убедительностью отражены и предсказаны в произведениях Чехова?
Вдумаемся вместе с ребятами, готовясь к усадебному походу: действие рассказов и драматургических произведений А.П.Чехова разворачивается не только на границе веков, но и на границе вихревых потоков истории, Чехов расширяет пространство границы между городом и усадьбой, превращая его в зону отчуждения. Едва ли не вселенски широкую. Начинающаяся «за колоннами» пьеса «Три сестры» завершается очередной, заполняющей пустоту, чебутыкинской припевкой («Тара. ра... бумбия. сижу на тумбе я.»), газетой в его руках, которой он неловко пытается отгородиться от реальности («Всё равно! Всё равно!»), да Ольгиным драматическим: «Если бы знать, если бы знать!» И драматизм ситуации вовсе не в том, что колонны не выдерживают возложенного на них груза, рушатся под напором новых исторических реалий, а в том, что им и подпирать-то нечего, кроме пустоты, равнодушия и отчуждённости, и их декоративная высота и мощь легко низводится жизнью до самого низа, до расхожей куплетной тумбы.
В чебутыкинском «Та-ра-рабумбия.» есть что-то от свободы любимой героини Чехова — Шарлотты из «Вишнёвого сада». В «Вишнёвом саде» у каждого персонажа своя форма зависимости от времени, свои счёты с настоящим, прошлым и будущим. З.С.Паперный определяет основной временной колорит «Вишнёвого сада» через атмосферу «прошлости», через мотив «изживания жизни»4.
И только, пожалуй, Шарлотта Ивановна оказывается одним-единственным персонажем, не зависимым от времени, свободным от него. Возможно, во всей драматургии Чехова — она такая одна. Не случайно имя «Шарлотта» переводится как «свободная, королевская». Главный фокус гувернантки Шарлотты в том и заключается, что ей не нужно принимать ничью сторону в этой исторической драме, она просто может наблюдать со стороны за происходящим через лорнетку, сохраняя своё человеческое достоинство, своё лицо. Не участвуя в так называемой «расстановке сил», Шарлотта находится в другом по отношению к русской усадьбе измерении, в другом геокультурном пространстве. И тем не менее она, единственная свободная здесь героиня, вносит в пьесу необъяснимую, едва ли не вселенскую тоску, связанную именно со временем. Она как само время — всем чужая и всем своя, всем — и неумолимая королева, и чуткая утешительница. Можно и так посмотреть на этот образ. Она — сирота времени, сирота уходящего («перспектива далеко уходящего потока жизни»), ушедшего уже европейского века, сирота европейской, проникнутой одиночеством, культуры. Вся её загадочная жизнь, начиная от лорнетки, белого платья, старой фуражки и ружья и заканчивая исчезающей у неё в руках колодой карт, тоже как будто бы готова вот-вот исчезнуть, свестить со старинных ретушированных фотографий, потому что не так уж и далеко до Первой мировой и до заката Европы.
Как, наконец, усадьба превратилась в воспоминание, в призрак, а литература о ней — в безутешный (при всей яркости художественных красок) реквием (И.Бунин, И.Шмелёв)? Образ бунинской Лучезаровки, отгороженной от большой жизни метелью и историей, не может не тронуть сердце. «Медленно наступает день. Темно, угрюмо, буря не унимается. Сугробы под окнами почти прилегают к стёклам и возвышаются до самой крыши. От этого в кабинете стоит какой-то странный, бледный сумрак...
Вдруг с шумом летят кирпичи с крыши. Ветер повалил трубу... Это плохой знак: скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от Лучезаровки!»
Об усадебном времени — разговор особый. Как движется оно по усадебным циферблатам? Как замкнутое, циклическое, семейное, родовое, профанное, идиллическое, обрядово-календарное, векторное? Способна ли усадьба «приручить» время, или это лишь очередная иллюзия, и время, как в драматургии Чехова, подменяет собой события, само становится главным действующим лицом, превращая героев в пленников своей орбиты? И можно ли, подобно Обломову, жить по собственному — индивидуальному — временному поясу? И о чём договаривается в «Отцах и детях» красавица Одинцова, едва ли не главная фигура романа, с усадебным Хроносом? А ведь она, Анна Сергеевна, держит в руках нить времени, которую можно назвать нитью Ариадны, а можно — нитью человеческой судьбы, которую тянут парки. Образ Одинцовой критик П.В.Анненков сравнил со шкатулкой5.
О, если так, то шкатулочка та с секретом, и ключ к ней ещё не подобран. Вдумаемся (опять невольно повторяю этот свой призыв): мать Анны Сергеевны когда-то познакомила родителей Аркадия, сестра Одинцовой составила его счастье, про свою героиню Тургенев пишет: «.она ни перед чем не отступала и никуда не шла». Какое потрясающее противоречие! Какая динамика за ним скрыта!
Мотив гнезда над обрывом, ставший едва ли не определяющим в последнем романе Ивана Гончарова, тоже имеет скрытую динамику, обретая символический статус в русской усадебной литературе XIX века. В чём основной конфликт, отражаемый русской усадебной литературой? В чём её скрытый драматизм? Отважимся ответить на этот вопрос так вот парадоксально. Усадебная литература, всегда отличавшаяся антикрепостнической направленностью, была антиусадебной. Почему? Потому что русские писатели от Пушкина до Гоголя, от Тургенева до Гончарова, от Бунина до Чехова были певцами усадебной культуры, усадебного быта и лада. Круг усадебной жизни был для них и идеалом, и предметом переустройства, обновления, слома. Одновременно и «гробом существования», тем, что придётся отдать земле и огню, старым деревом, неизбежно идущим под топор, и крыльцом с колыбелью, то есть тем, что будут завещать они потомкам беречь в сердце до конца дней и веков. Почти забытый ныне критик-нигилист Варфоломей Александрович Зайцев (1842—1882) (настоящий Базаров в мире русской критики, обратите внимание на даты жизни) писал о сне замерзающей некрасовской Дарьи: «Эта картина есть самый полный идеал счастья, какой только могла создать фантазия крестьянки. Кто не поймёт этого, кто пройдёт мимо этой картины равнодушно или с банальными похвалами, тот пошлый филистер, не видящий ничего дальше своего носа и носов своего кружка. От такого господина можно даже ожидать, что он останется недоволен тем, что эта картина представлена — бредом умирающей, а не действительностью. Да поймите же вы наконец, безнадёжные филистеры, что в действительности ничего подобного нет, что если бы в минуту смерти крестьянке грезилось её действительное прошлое, то она бы увидела побои мужа, не радостный труд, не чистую бедность, а смрадную нищету. <...> Но кто не причастен филистерству и пошлости кружков, тот, прочитав предсмертный бред Дарьи, поймёт, что насколько силён протест, настолько же высок и идеал, помещённый рядом с протестом, или лучше, в нём же самом.»6.
Идеал, помещённый в протесте. Как раз на таком вот разломе, на таком обострённей- шем внутреннем противоречии только и могли родиться шедевры, подобные «Дворянскому гнезду», «Вишнёвому саду» или «Обломову». Попытку преодолеть это противоречие предпринял, пожалуй, один только Гоголь, и, возможно, поэтому образ сада звучал столь пронзительно и обречённо-прекрасно в несохранившихся тетрадках второго тома.
...Находясь в Симбирске, на Большой улице, в доме Гончаровых у Вознесенья, Иван Александрович, знаменитый уже автор «Обыкновенной истории», приехавший повидаться со своими и прямо-таки осаждаемый любопытствующими симбирянами, полусерьёзно-полушутя сетовал, сидя на крылечке родного дома (как это донёс в своих воспоминаниях Г.Н.Потанин): «Что это такое?.. Они не дают мне с Матушкой играть. Уедемте, мама, лучше в наш сад под гору, там и будем жить, как в скиту: туда не все доберутся.»
Понимая, насколько это трудно и ответственно, сколь много требует это сердечного соработничества, давайте вместе с сегодняшними школьниками отправимся туда, куда «не все доберутся», и откроем не парадные двери, конечно, русской усадебной литературы XIX века, что было бы действием слишком самонадеянным, а с чувством неодолимого волнения подойдём к её чудом уцелевшему ветхому — вечному — родному крыльцу.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 ЛИХАЧЁВ Д.С. Раздумья. — М.: Детская литература, 1991. — С. 126.
2 См.: ШИЛОВ К.А. Восстановление родства. — М.: Пресс-Плеяда, 2007.
3 См. подробнее: Щукин В.Г. Российский гений Просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. — М.: РОС- СПЭН, 2007 (Российские Пропилеи).
4 ПАПЕРНЫЙ З.С. «Вопреки всем правилам»: Пьесы и водевили Чехова. — М.: Искусство, 1982. — С. 205—206.
5 АННЕНКОВ П.В. К творческой истории романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» // Русская литература. —1858. — № 1. — С. 148.
6 ЗАЙЦЕВ В.А. Стихотворения Н.Некра- сова // Критика 60-гг. XIX века. — М.: Астрель, 2003. — С. 234.
ПЫРКОВ Иван Владимирович
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры Саратовской государственной юридической академии, лауреат Международной премии «Золотое перо России», член Союза писателей России






 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий