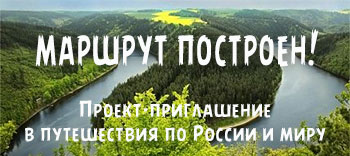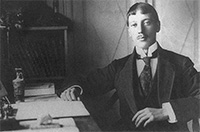Распопин В. Н. Классическая биография Пушкина
Тыркова-Вильямс, Ариадна Владимировна. Жизнь Пушкина: В 2 т. – 4-е изд. - М.: Молодая гвардия, 2004. – 472 + 514 с. (Серия «Жизнь замечательных людей») Совсем недавно наша библиотека предложила читателям книжную выставку, представляющую книги серии «Жизнь замечательных людей», имеющиеся в фонде. Среди этих книг был и двухтомник «Жизнь Пушкина», созданный в первой половине ХХ века известнейшей политической деятельницей, журналисткой, эмигранткой Ариадной Тырковой-Вильямс.
Совсем недавно наша библиотека предложила читателям книжную выставку, представляющую книги серии «Жизнь замечательных людей», имеющиеся в фонде. Среди этих книг был и двухтомник «Жизнь Пушкина», созданный в первой половине ХХ века известнейшей политической деятельницей, журналисткой, эмигранткой Ариадной Тырковой-Вильямс.
В этой статье я расскажу читателю о незаурядной книге Тырковой-Вильямс подробнее. Зачем, коль скоро мы давно имеем в библиотеках, в школе, а может быть, и дома несколько десятков научно-популярных и художественных биографий поэта, как составленных серьезными компиляторами, например В. Куниным, так и изложенных крупнейшими пушкинистами В. Вересаевым, Л. Гроссманом, Ю. Лотманом, В. Непомнящим, не говоря уж о трудах Ю. Тынянова? На этот и прочие вопросы я и постараюсь ответить в статье.
Рассматриваемая книга принадлежит перу не историка литературы, а известнейшей в начале века кадетки, одной из руководителей партии конституционных демократов, той самой дамой, про которую в свое время шутили: среди кадетов есть только один настоящий мужчина - и тот Тыркова. Биографию Пушкина она писала в эмиграции в течение 20 лет. В двадцатые годы в Европе вышел первый том, после второй мировой войны, в США, - второй.
Столь длительный перерыв не мог не сказаться как на восприятии биографии первыми читателями, ведь за это время успело смениться не одно поколение, так и на самой книге, поскольку первый том создавал еще молодой автор, а второй - человек, претерпевший множество личных и социальных утрат. В результате и Пушкин предстает перед читателем в первом томе в достаточно привычном облике - молодого, задорного, буйного гения, во втором же томе - совершенно успокоившимся мудрецом, глубоко религиозным государственником, чуть ли не царедворцем. Эта метаморфоза в большей мере отражает духовный путь самой Тырковой: от яростного демократизма молодости - через разочарования в эмиграции - к осознанию необходимости монархического строя в России.
Так ли это относительно Пушкина? Не уверен. Тем не менее, знакомство с тырковской интерпретацией биографии, творческого и духовного пути Пушкина весьма полезно и библиотекарю, и учителю-словеснику, и его учащимся, да и вообще широкому читателю, поскольку представляет нетипичный для пушкинистики и при этом достаточно взвешенный подход к фигуре «нашего всего», как выразился о поэте Аполлон Григорьев. Сходные представления о русском гении высказывал в научных трудах у нас, пожалуй, только филолог Валентин Непомнящий.
К числу наиболее интересных страниц книги Тырковой-Вильямс, таким образом, относятся главы второго тома, посвященные религиозным, историческим, социальным воззрениям Пушкина. Главное же их достоинство в том, что все эти воззрения выводятся автором непосредственно из текстов (чаще всего поэтических) и представляют, таким образом, своеобразный анализ творчества великого русского поэта. Помимо прочего, книга Тырковой-Вильямс предлагает скрытую, но оттого не менее резкую полемику с тем направлением литературоведения, которое принято называть "вересаевским".
Помимо прочего, книга Тырковой-Вильямс предлагает скрытую, но оттого не менее резкую полемику с тем направлением литературоведения, которое принято называть "вересаевским".
Эту полемику читатель может самостоятельно и вполне адекватно оценить, поскольку основные труды В.В. Вересаева, в том числе книги «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина», в последние десятилетия многократно переиздавались и, наряду с представляемым изданием, имеются в фонде библиотеки.
Работу над «Жизнью Пушкина» А.В. Тыркова-Вильямс начала в 1918 году, в Англии, где познакомилась с пушкинскими родственниками, с его архивом. Переоценив и переосмыслив творчество великого национального писателя, она уже не могла не написать о нем свою добросовестную и, разумеется, - ведь русский же литератор! - весьма тенденциозную книгу.
Опустим подробности детства и отрочества Пушкина - они слишком хорошо известны и не содержат для нас ничего нового, хотя и пытаются некоторые современные сочинители это новое придумать. У Тырковой все рассказано точно: равнодушие себялюбивых родителей; раннее пристрастие к чтению «зловредных» французских романов и стихов, как попало собранных в отцовской библиотеке; дружбы и не-дружбы в Лицее. Отмечу лишь досадную оплошность автора, чуть ли не единственную во всей книге. На стр. 86 первого тома в четвертом абзаце читаем: «Другим лицеистом, о котором, умирая, вспомнил Пушкин, был И.И. Пущин. Их дружба началась во время выпускных экзаменов и с годами окрепла». Исправим: экзаменов не выпускных, а вступительных, само же знакомство, как всем известно хотя бы из романа Ю.Н. Тынянова, состоялось еще до Лицея. В самом деле, мог ли всегда точный и внимательный к слову Пушкин написать: «Мой первый друг, мой друг бесценный...», если бы дружить они с Пущиным начали в 17 лет, уже на выходе из Лицея?
Собственно, книга Тырковой всерьез и по-настоящему начинается даже не с первого петербургского периода жизни поэта, а с его первой ссылки. Именно «южное» творчество Пушкина, именно его первое «оправение», связанное, по мысли автора, с большой, поистине первой, неразделенной, потаенной, облагораживающей любовью к Марии Раевской, будущей жене декабриста Волконского и героине некрасовской поэмы, - есть, по Тырковой, начало великого творческого и, самое главное, духовного пути русского гения. На этом пути Пушкина подстерегали многие бесы, первый из которых – «демон» Александр Раевский, брат возлюбленной, мрачный и холодный циник, суть предатель и совратитель только-только набирающего силу поэта и гражданина Пушкина. Не было б Раевского, не было б и единственного (по большому счету) творческого злодеяния Пушкина – «Гавриилиады», и одного из многих мелких - перехваченного полицией письма об «уроках чистого афеизма», которых, уроков, не так много было, как последствий, из письма проистекших.
Все творчество Пушкина периода «южной ссылки» рассматривается Тырковой как поле боя, как арена великой борьбы Божеского и бесовского. Что сказать? Любит, обожает Тыркова-Вильямс своего героя, но и не прощает ему ни единого отступления от пресловутых «православия-самодержавия-народности». Вот вам и тенденциозность в чистом виде, типичная и непреходящая в русской публицистике.
поле боя, как арена великой борьбы Божеского и бесовского. Что сказать? Любит, обожает Тыркова-Вильямс своего героя, но и не прощает ему ни единого отступления от пресловутых «православия-самодержавия-народности». Вот вам и тенденциозность в чистом виде, типичная и непреходящая в русской публицистике.
Дальше – больше. По мере того, как растет, становится пушкинская зрелость - личная и творческая - и тон повествования становится все любовнее, а текст все публицистичнее, порой из области собственно биографической и литературоведческой переходя в область психоаналитики.
Кончается первый том высылкой поэта в Михайловское и смертью царя Александра.
Второй том написан ровнее, спокойнее. Немудрено: пора молодых безумств миновала и героя и автора. Наступило время осознавать и анализировать прожитое, отвечать перед новым царем, перед Богом, перед самим собой.
Отдадим Пушкину должное – он был ответственным человеком. И вот это его личное качество прописано А. Тырковой прекрасно. Сюда подверстывается всё: его отношения с семьей (письма к брату, мудрые и наставительные: не делай, как я до 25-го года, забота о делах хозяйственных, которых ни поглупевший отец, ни рассеянная в сумасбродном себялюбии мать, ни пустоватый брат, ни завистливая к чужому успеху сестра, ни впоследствии недалекая – по общему литературоведческому представлению тех времен - мещаночка жена исполнять не умели); его забота о детях, друзьях, знакомых и долгах, собственных и чужих; его отношение к заговорщикам; его верноподданнические отношения (вплоть до последней трагедии) к Николаю Первому; его, оставившее (по настойчивому убеждению автора) всякое либеральничанье, позднее творчество; наконец его последняя борьба и последнее примирение с Богом и царем.
Но главное, конечно, творчество. О нем Тыркова-Вильямс пишет много и по большей части справедливо. Спорен, пожалуй, лишь ее вывод о том, что центральным произведением Михайловской ссылки следует считать «Бориса Годунова». А почему, скажем, не «Онегина»? Почему не «Пророка», где всего лишь в 30 строках сконцентрирована вся философская тематика зрелого Пушкина? Да и сам «Борис» рассматривается автором биографии чересчур однобоко – как свидетельство пушкинского оправения, в то время как драма эта отражает весь комплекс центробежно-центростремительных, раздирающих и Пушкина, и литературу, и пушкинскую эпоху противоположностей от «любви к отеческим гробам» до «храните гордое терпенье». Недаром же напечатать «Бориса Годунова» автору царь не позволил.
Здесь, в «Пророке», по моему глубокому убеждению, сосредоточена главная причина возрождения темы «поэт и поэзия», «поэт и чернь», плавно переходящей затем в тему «нерукотворного памятника», многократно разрабатываемой поздним Пушкиным, здесь источник его знаменитого и знаменательного: «Ты - царь. Живи один». Здесь же и источник мудрых и мучительных пушкинских писем к Вяземскому, Плетневу и Дельвигу, которые одни могли основательно понять и простить поэта. Именно понять и простить, ведь понять – это и значит простить.
Много пишет А. Тыркова о пророческом и суеверном в жизни и поэзии Пушкина. И эти страницы тоже очень интересны. Но – странное дело! - ни слова не говорит она о самых трагических и пророческих строках Пушкина, написанных после скоропостижной смерти Дельвига:
Зовет меня мой Дельвиг милый,
И мнится - очередь за мной.
Почему? Загадка. Может быть потому, что слишком большим показался бы контраст между двумя поэтами и друзьями, один из которых умер от испуга после разноса, устроенного ему властями за вольности, допущенные в «Литературной газете», а другой спустя несколько лет бесстрашно подставил грудь под пистолет – за честь семьи и, конечно, литературы, ибо сами понятия чести и поэта для Пушкина были синонимичны.
Пора жениховства, взаимоотношений Пушкина с цензурой, царем и Бенкендорфом описана в книге также хорошо и подробно. То же можно сказать и об отношениях с женой, последней трагедии и проч. Ровно столько, сколько надо. Замечательно рассказано и о первой болдинской осени. Особенного внимания читателя заслуживают размышления о «Моцарте и Сальери» и «Каменном госте», из которых процитирую лишь вывод, дабы не утяжелять и без того разросшийся текст статьи: «Разнообразны, богаты оттенками художественные образы, явившиеся на свет в Болдине по властному призыву Пушкина, но сквозь них, как руководящий мотив в музыкальном произведении, проходит одна объединяющая их мелодия - чувство Судьбы, многообразный фатализм».

Что тут можно добавить? Разве что строчку «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь» заменить на: Ты, Пушкин, Бог, и это понимаешь... Но зачем? Лучше процитировать письмо к жене (цитируемое и Тырковой): «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом». Всё он, разумеется, понимал. Все и всех. И Карамзина, и Державина, и жену с Дантесом, и Мицкевича, которого выпустили в Европу по его же, пушкинскому, заступничеству, и который всю Россию с Пушкиным вкупе за то возненавидел, и Чаадаева, и себя самого, наконец, понимал он правильнее, лучше любых комментаторов. Сказано ведь: «Умнейший человек России»!..
Но сильнее всего, пожалуй, рассказывает А. Тыркова о восприятии поэтом «Философических писем» Чаадаева и о религиозности Пушкина – своеобразной и пришедшей к нему в зрелости, сожалея о невстрече поэта со св. Серафимом Саровским и приводя в пример благоприятное влияние на Л. Толстого и Достоевского общавшихся с ними пустынников. Но и Пушкин – не религиозный мыслитель-романист, и Серафим, конечно, не благостный старец Зосима, чему свидетельством поэтическая перекличка стансов «Дар напрасный, дар случайный…» и отклика-пародии на них Серафима: «Не напрасно, не случайно…».
Пушкин переписывался со многими корреспондентами, многие современники оставили свои отзывы о нем, но лучше всех, кажется, сказал о поэте все-таки Дельвиг: «Великий Пушкин, малое дитя!». И эту фразу А.В. Тыркова-Вильямс многократно повторяет на страницах своей книги, несмотря даже на то, что не слишком она соответствует ее концепции Пушкина как православного мудреца и политика. Воистину, по строке того же Дельвига: гений - «он и в лесах не укроется».
Любопытно, что Николай I, судя по его отношениям с Пушкиным, сам, вероятно, понимал поэта по дельвиговским лекалам: об этом свидетельствует все его поведение в течение десяти лет их полускрытого общения. Об этом, если прочесть ее беспристрастно, свидетельствует и записка царя умирающему поэту, письмо, которая нечасто приводилась в популярной литературе о Пушкине. Вот она: «Любезный друг Александр Сергеевич, если не суждено нам свидеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение».
Вот вам и Палкин...
Солидный труд А.В. Тырковой-Вильямс пришелся по душе многим читателям – не зря же и переиздан был за двадцать последних лет десять раз, однако погоду в нашем пушкиноведении он все-таки не сделал, да и вряд ли уже сделает, хотя, конечно, и не затеряется среди прочих. Он не первый и не последний в чреде биографий, вызванных «сияньем его имени», но один из первых трудов эмиграции, у нас изданных и, соответственно, представляющих поэта не слева, как привычно было советскому читателю, но справа. И этот взгляд справа тем более интересен, поскольку позволяет читателю взглянуть на «солнце русской поэзии» широко открытыми глазами и увидеть его с противоположной стороны.





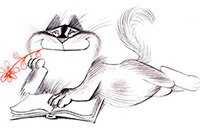
 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий