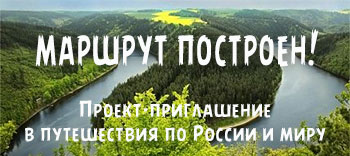Дзыга Я.О. «Пушкин — все наше бытие» (Пушкинский вектор в творчестве И. Шмелева)
Ключевые слова: биография писателя, русская эмиграция первой волны, художественное воплощение национального самопознания, пушкинская традиция в литературе.
Интенсивный процесс воссоединения русской литературы XX века в единый поток на сегодняшний день нашел адекватное отражение в практике школьного преподавания. Ранее изъятый пласт литературы эмиграции в школьной программе представлен именами наиболее ярких писателей русского зарубежья, в числе которых И.С. Шмелев. При этом методологической основой изучения целостного литературного процесса являются этико-эстетические традиции русской классики. Особенно интересным с этой точки зрения представляется пушкинское влияние в творчестве Шмелева.
Вся жизнь автора «Лета Господня» протекала «в присутствии» Пушкина. Первое детское воспоминание о классике связано с тяжелой семейной драмой Шмелевых. Подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину в 1880 году был последним в жизни отца будущего писателя.
С этим событием связаны первые детские впечатления Шмелева о русском гении. Ко времени постройки трибун мальчик уже знал и «Птичку Божию», и «Румяной зарею», успел прочитать всего «Вещего Олега», но его представления о поэте носили смутный характер. «Я рад, что отец строит «места» для Пушкина. <...> Через это Пушкин становится мне близким, нашим. Я рад, но ясно не понимаю — чему я рад»1.
Наряду с Достоевским и Толстым, автор «Евгения Онегина» был кумиром Шмелева на протяжении всей жизни. С именем поэта связаны сильнейшие гимназические переживания Шмелева, оказавшие влияние на все последующее творчество. «Перед словом писатель я благоговел, — вспоминал Иван Сергеевич в «Автобиографии». — И тогда, не навеянное уроками русского языка, а добытое внутренним опытом, встали передо мной как две великие грани Пушкин и Толстой» (1,17).
Большое влияние на Шмелева в гимназии оказали уроки учителя-словесника Федора Владимировича Цветаева. Он любил «слово» и сумел привить эту любовь своим ученикам: «<...> Так, мимоходом будто, с ленцою русскою, возьмет и прочтет из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством» (2, 303). «След» пушкинской «Русалки» обнаруживается в первом печатном опыте начинающего писателя, рассказе «У мельницы».
Условия эмиграции обусловили повышенный интерес изгнанников к истокам русской культуры. Художественным воплощением национального самосознания стало для писателей-эмигрантов творчество Пушкина: «Приверженность ценностям отечественной культуры, связанная в эмиграции с именем Александра Сергеевича Пушкина, позволяла оказавшимся в зарубежье россиянам сохранять этническое самочувствие, а с ним и надежду на время, когда в общественном сознании по обе стороны границы их Родины наступят, наконец, понимание бесперспективности политического противостояния, взаимное покаяние и взаимоприятие разделенных историей соотечественников»2.
В речи, прочитанной на торжественном собрании в Варшаве 11 февраля 1937 года, Шмелев подчеркнул созвучность пушкинского гения духовным началам русского национального характера, стихии родного языка, указал на объединяющую и возвышающую силу пушкинского слова: «Пушкин — все наше бытие, «самостоянье» наше <...> от первого глагола Летописца — до последнего слова прерванной Истории Российской» (7, 515).
Высоко чтя классическую литературу, много давшую не только русской, но и мировой культуре, гений Пушкина Шмелев выделял особенно. «Лермонтова я не сравню с Пушкиным, — констатировал художник в одном из писем, — а прозу его я считаю образцовой по той поре. Чехов ставил его «Тамань» — как образец рассказа. И это верно. Пушкинская точней, четче, — самостоятельней. Стихи Лермонтова страшно перегружены лишним, у Пушкина — только необходимое, кратче нельзя, предел. Как Слово Божие <...>»3.
Частое обращение писателя-эмигранта к пушкинской традиции связано с его восприятием творчества классика как художественного совершенства, сравнимого со священными текстами Писания. Отсюда, по Шмелеву, неисчерпаемость, сложность и многоплановость пушкинских произведений. «Выше сего гения мир не знал. Т.е. мир и теперь не знает, ибо Пушкин — непередаваем. Я его только начинаю постигать»4, — признавался автор «Лета Господня».
Уникальный случай в истории национальной культуры — своеобразная «канонизация снизу, чрез "глас народа"», которой удостоился творческий и человеческий гений поэта: «Пушкин таинственно стал alter ego России, — ее другим «я». Россия стала неотделима от Пушкина, а он от нее. Лицо и сердце России стали «пушкинскими», ибо тайна «явления» Пушкина и заключена в том, что великий Пушкин есть личное воплощение величия души России»5. Это «величайший представитель русского духа» (С. Франк), в образах которого запечатлен «национальный символ веры» (И. Ильин).
Смысл великой учительской миссии Пушкина («Вечный Учитель», «Прометей») прочитывается в одном из писем Ивана Сергеевича Ильину: «<...> Пушкина надо преподавать! Пушкинознание!!! Пушкинометрия! По ступеням: с 5 летн. ребенка до — Академии! И должна быть наука Пушкинография! <Пушкино>номия!!»6.
Всем своим творчеством Шмелев служил великому делу «блюдения лика Святой Православной Руси» (П. Струве). Эта коренная черта творческого облика самого русского из русских писателей была особенно отмечена Ильиным. Определив Шмелева «бытописателем русского национального акта», философ указывал на преемственную связь его художества с традицией русского искусства вообще и пушкинской традицией в частности. Не случайно в книге Ильина «О тьме и просветлении» имя Пушкина в связи с именем Шмелева упоминается трижды.
Начать с того, что первоосновой этико-эстетических установок обоих писателей является православие. Не преувеличивая связь Пушкина с религией, нельзя не признать, что именно в его творчестве «дана консолидация христианства в литературно-метафизическом плане» и «единственное преодоление богопротивного западного гуманизма»7. Можно с уверенностью утверждать, что в богатом и глубоком содержании духовного мира Пушкина религиозное чувство играет первостепенную роль, а всякое сомнение в этом, по мысли С.Франка, равносильно кощунственному сомнению «в религиозной одаренности русского народа»8.
Для Шмелева православие Пушкина было непреложной реальностью. Стихотворение тридцатилетнего поэта «Монастырь на Казбеке», по слову писателя, являлось не только свидетельством ранней духовной зрелости его автора, но и знаком величайших духовно-эстетических потенций: «<...> Что бы дал он, не оборвись жизнь так!..»9.
В то же время церковь и православная вера — важнейшие ценности художественного мира Шмелева. При этом значение его творчества для русской литературы уникально. Он не только доказал, что «художественная литература может быть церковно-православной, не утрачивая художественности»10, но и в условиях секуляризованной культуры XX века сумел восстановить прерванную православную традицию русской литературы, во многом восходящую к имени классика.
Однако не стоит забывать, что «образ верующего христианина» (С. Булгаков), каким он сложился к концу жизни Пушкина, отнюдь не всегда был ему свойствен. Духовный путь поэта был непростым. Отдав дань заблуждениям юности, оформившимся сначала в гедонистические воззрения, потом идеалы Байрона и Наполеона, соблазны «чистого афеизма», в итоге он пришел к личной вере в Христа и уже не мыслил своего творчества вне христианства. Лучше всего этапы развития духовного мира Пушкина прослеживаются в его творчестве, начиная с беззаботного лицейского стихотворения «Блаженство» (1814) и заканчивая произведением «Странник» (1835) с представленной в нем евангельской темой бегства от мира в поисках «тесных врат» спасения.
При всей кажущейся несопоставимости путь Шмелева-христианина во многом напоминает пушкинский. Родившийся в патриархальной православной семье, будущий писатель вошел в жизнь твердо исповедуя веру отцов. «В доме я не видал книг, кроме Евангелия <...> и молитвенников», — вспоминал писатель в «Автобиографии» (1, 15). Однако впоследствии жизнь не раз испытывала веру Шмелева. Особую роль в этом сыграли события первой русской революции. Новый прилив религиозности начался после счастливой женитьбы, когда в качестве свадебной поездки молодожены избрали древнюю обитель Валаамского Преображенского монастыря.
В дальнейшем вера без преувеличения стала опорой и спасением Шмелева в горниле тяжелых испытаний революции, гражданской войны, эмиграции. Однако и тогда духовный путь писателя не был лишен тягостных, омрачающих душу сомнений, которые особенно одолевали его в горестные минуты жизни. Так было после смерти горячо любимой жены и верной помощницы Ольги Александровны, когда писателя оглушило ощущение богооставленности. «Помолитесь, — умолял Шмелев супругов Ильиных, — душу потерял. Надо заставить себя — читать Евангелие, надо. <...> А меня, словно бес: ни к Храму не подпускает, ни к Писанию...» (2, 235).
Автор «Богомолья» порой умиротворенно и благостно, а порой мучительно и отчаянно искал Бога в жизни и творчестве: «В своих работах я лишь кусочками строил своего Бога, — и мозаичен Он, и не ясен до чистоты» (1927-1934, 34).
Это движение на ощупь, ситуация на распутье были следствием большой внутренней требовательности писателя, который часто судил себя слишком строго и несправедливо. Суевер, язычник, маловер, «непромешанная каша», — сокрушался Шмелев, жалуясь Ильину на духовную слабость («не дорос, в пеленках») и тревожился, не эстетического ли порядка его вера.
В обстановке вынужденного изгнания писатель особенно остро ощущал «духовную жажду», с сожалением вспоминая упущенную возможность общения со старцами. В свое время, уступив давлению матери, он ездил за укреплением к схимнику Зосимовой пустыни Алексию. Тогда он отнесся к поездке легкомысленно и только впоследствии осознал свою ошибку. Она сказалась особенно явственно во время работы над образом старца Варнавы из «Путей небесных». Шмелев понимал всю сложность изображения святой простоты и очень переживал, что не справится с художественной задачей («Ох, сорвусь на "старце"»). Утешала вера в то, что его слабый голос будет учтен и ему воздастся за скромные, в его понимании, труды: «Благодарю Господа за сподобление — маленьким служкой быть во имя Его. Я же знаю: в великую кадильницу на Божественной Литургии Поднебесной чутошные зернышки ладанцу подсыпал... только. Но это — высокая награда. У Него и в притворе подметать — честь великая. Не отстрани, Господи!» (1947-1950, 347).
Служение во Имя для Шмелева имело первостепенное значение и в творчестве Пушкина. Красноречивым свидетельством шмелевских приоритетов является тот факт, что в поле зрения писателя-эмигранта попадают произведения зрелого поэта, уже прошедшего путь от атеистических сомнений через покаяние к живой вере. Это прежде всего: «Борис Годунов», «Пророк», «Анчар», «Воспоминание», «Полтава», «Евгений Онегин», «Пир во время чумы», «Два чувства дивно близки нам...», «Бесы», «Медный всадник», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Вновь я посетил», «Памятник», «Капитанская дочка» и др.
Публицистические и художественные произведения Шмелева насыщены цитатами из произведений классика, свидетельствующими о глубочайшем знании писателем творческого наследия автора «Евгения Онегина». Обращение к пушкинским сюжетам, образам, мотивам, описаниям связано с сознательной установкой на взаимодействие с классикой.
Всемирность Пушкина воспринималась Шмелевым как потенциальная открытость ценностям мировой культуры, приобщение к которой возвысит исконно русское, национальное: «Через него только мы можем обнять весь мир, как ни через кого, можем познать Россию — внять Ей» (2, 499).
Вместе с тем понятие «европеизма», столь органичное для Пушкина, к случаю со Шмелевым абсолютно неприменимо. В этом, несомненно, большую роль сыграли обстоятельства жизни писателя-изгнанника. Обстановка бесприютного эмигрантского существования не способствовала росту интереса к европейской культуре, а созерцание бездуховности западноевропейского общества внушало беспокойство за будущее человечества. Шмелев противопоставлял Европе во многом идеализированную Россию. «<...> Эх, перекинулся бы я в век давний, жить бы мне на лыке — на лучине, во пустыне, во времена Сергия, Саввы, Стефана... — лютые были времена, но сколько же и высоты было, и какой! <...> Ведь там камни <...> пели-плакали... А здесь — я ничего не слышу: немы и мертвы мне камни европейцев» (1927-1934,186). И как заклинание: «Жду России — судорожно <...> хватаюсь за Пушкина» (1935-1946, 128).
Однако и в европейской культуре у Шмелева были свои предпочтения. Отвечая на вопрос об иностранных писателях в «Анкете об отдыхе», Иван Сергеевич сообщал: «Современных я знаю мало, с правом на мировое место совсем не вижу. Из прошлого: Бальзака люблю за изобразительность человеческих страстей, Диккенса — за сострадание, Флобера — за мастерство, Гёте — за глубину лиризма, Киплинга — за "рассказ"» (7, 471).
Близкие славянофильским взгляды Шмелева на пути развития России далеко отстоят от пушкинских в вопросе о значении реформ Петра I. Двойственному отношению поэта к фигуре русского самодержца противостоит осуждающая оценка писателя-эмигранта. Петровский напор, эта «антихристова печать», «смутил и придавил душу народа, запугал и загнал ее, сбил с естественного пути раскрытия» (7, 546).
Желание прикоснуться к истокам, высказать сокровенное, родное у Шмелева усиливалось ситуацией вынужденного изгнания, предельно обострившей задачу воссоздания подлинной, незнаемой европейцами, «пропущенной» России. В этом смысле любовное отношение Шмелева к русскому народному бытовому и религиозному укладу, традициям старины может быть сравнимо с пушкинской «философией почвенности», которая, по слову С. Франка, лучше всего выражена Пушкиным в стихотворении «Два чувства дивно близки нам...». Не случайно знаменитые строки пушкинского шедевра стали эпиграфом к одному из самых задушевных произведений Шмелева роману «Лето Господне».
Пушкинская тема «пенатов», столь значимая в творчестве представителей старшего поколения писателей-изгнанников, стала основой автобиографического повествования Шмелева. Но если у Пушкина синонимами родного дома были прежде всего Михайловское и Царское Село, то у автора «Богомолья» с этим понятием ассоциировалась вся Россия, берущая начало в доме на Калужской улице московского Замоскворечья и замыкавшаяся в сердце европейского скитальца Шмелева.
Писатель снова и снова обращался к правде пушкинской веры в «животворящую святыню» любви к Родине, видел в ней знамение воскресения России. Через обращение к стихотворению «Два чувства дивно близки нам...» писатель выражал свои сокровенные надежды на «выпрямление» духа и возрождение великой страны в статьях «Как нам быть?» и «800-летие Москвы»: «Это проникание к истокам, эта «любовь к отеческим гробам», «к родному пепелищу», это вслушивание в шепоты прошлого... — крепит падающих духом. <...> Приникание к родным истокам, вглядывание в самые камни древние — большая сила» (7, 566).
Следуя пушкинской традиции определения искусства как служения Богу, Шмелев считал, что в творчестве «Вера — во главе», а художник — Божий слуга, призванный творить во-Имя, ответственный перед Богом, Родиной и народом.
Особенно созвучным этим настроением писателя оказалось стихотворение «Пророк», которое автор «Лета Господня» цитировал часто и охотно. Этот стихотворный шедевр, по Шмелеву, — вечное откровение о человеке и «Глаголе». В статье «Заветная встреча» писатель сравнивает влияние поэтического дара Пушкина на человека с очистительной встречей с Серафимом.
Пушкинский «Пророк» не однажды возникал в сознании Шмелева во время работы над «Путями небесными». Понимая непомерную сложность нового в литературе «опыта религиозного романа», писатель не однажды делал перерывы в работе, чтобы собраться с мыслями и духовно укрепиться. «<...> Во мне многое раздирается, — делился он своими переживаниями с Ильиным, — многое я не могу внять, бунтую-барахтаюсь... <...> Хочу «до дна» опуститься, весь «гад подводный ход» видеть, слышать и — добраться духом до "ангелов полета"» (1935-1946, 62).
Искусство слова писатель ставил выше других искусств, полагая обязательным условием художественного творчества душевное горение. Это состояние Шмелев называл «подвигом вдохновения», тончайшим, тревожно-чутким «сном-на-яву», а ощущения писателя по окончании процесса творения описывал строками пушкинского стихотворения «Труд»: «Когда кончал работу, ставил последнюю точку... — то-ска! "Миг вожделенный настал, / Окончен мной труд многолетний... / Что ж непонятная грусть / Тайно тревожит меня?.."»11.
Вдохновение, по Шмелеву, — синоним свободы творчества, которую часто понимают превратно, пытаясь подчинить порыв тенденции, школе, направлению. Об этом со ссылкой на классика красноречиво высказался герой «Записок неписателя»: «Я даже рад, что «неписатель». Писатель всегда с «погюлзновеньем», хотя и исполнен вдохновенья. <...> И потому сворачивает с дороги, на которую вдохновенье его влекло? Вот чего не найти у Пушкина, и вот почему надо у Пушкина учиться» (3, 290-291).
Отсюда опасливое отношение Шмелева к публицистическим жанрам, обязывающим ответственностью проводить идеи и указывать пути. «В художестве <...> — я вольнее, я без претензий», — объяснял Иван Сергеевич свои затруднения в ответ на просьбу Ильина прислать статью для журнала «Русский Колокол» (1927-1934, 45).
У Пушкина Шмелев учился «удерживать вниманье долгих дум», что для него было непросто. Кипучий, порывистый, импульсивный во всем, он никогда не вел записных книжек и не составлял планов работы: терпения не хватало. К обстоятельствам субъективного характера в эмиграции прибавились причины внешнего порядка: бытовая неустроенность, бесприютность, нищета, заставлявшая писать ради заработка. Тишина, уединение, тихий труд и жажда размышлений, о которых писал Пушкин в период южной ссылки в стихотворении «Чаадаеву», для Шмелева были несбыточной мечтой и предметом вечных сожалений. «<...> Работаю ма-ло, — с горечью сообщал Иван Сергеевич в письме к Ильину. — Хочу писать... что-то, но надо — уткнуться в тишь» (1927-1934,89).
Тишины и покоя не было со времени революционных событий в России. Ситуация значительно усложнилась после смерти верной помощницы и любящей жены Шмелева, когда бытовые проблемы достигли угрожающих размеров. «Вы не знаете, что мне приходится на долю, — с горечью писал он Ильину, — и за все — про все: и писатель, и истопник, и повар, и подметальщик, и прачка, и доктор, и «сестра», и по лавкам <...>» (1935-1946, 368).
Шмелев всегда был очень требователен к себе, «с собой <...> никогда не носился», боясь погрешить против высокой русской литературы. Идеальным мерилом для него были плоды пушкинских творческих усилий. В письме к Бредиус-Субботиной Шмелев так отзывался об одном из стихотворений поэта: «Кстати, ты знаешь его «Прозерпину»? Вчера я наткнулся на это, и прочел 3 раза! Шедевр! Музыка... <...> «Плещут волны Флегетона» <...> «Своды тартара дрожат...» Слышишь эту аллитерацию — «таррртар-рра», «дрррожат»? Ну, и дал же он эту Прозерпину!..»12.
При этом Шмелев знал настоящую цену непринужденного изящества и воздушности пушкинского слога: «Изучение пушкинской «лаборатории» <...> показывает, что при великих гениальных взлетах своих, Пушкин работал, упорно, упрямо, въедался в творимое (предносившееся ему неясно) зубами, умом, волей, глазом, — духом... — всем в нем»13.
Тем не менее простота формы и легкость выражения пушкинской мысли при глубине содержания — бесспорные составляющие пушкинской поэтической традиции.
В подобных пушкинским категориях оценивал стиль писателя-эмигранта большой знаток и ценитель его творчества И. Ильин: «Проза Шмелева выношена до полной зрелости, она выкована и в то же время легка и естественна. Это — проза; но эта проза есть поэзия <...>»14.
Правда, о легкости восприятия шмелевского стиля говорить не приходится. Насыщенный многочисленными паузами, восклицаниями, простонародными словами, ритмически сложный, он, по слову Ильина, дается только читателю с открытой душой и живым сердцем. «Не-сразу-прозрачный», — определял критик своеобразие шмелевского стиля.
Перед богатством и мощью пушкинского языка Шмелев благоговел. «Язык, — убежден писатель, — проба духовных сил народа. У народа духовно бедного — язык бедный. Мерило нашего языка — Пушкин. Он дает нам весь мир мощной стихией языка» (7, 518).
«Мощная стихия языка» — отличительное качество прозы самого Шмелева. По определению Ильина, слово писателя прозрачно и в то же время насыщено смыслом, подлинно, объективно и лаконично. «При этом ни эти слова, ни их ритмическая череда не терпят ни замены, ни подстановки, ни перестановки»15.
Упомянутыми схождениями-расхождениями проблема «Шмелев и Пушкин» далеко не исчерпывается. Выявление новых ракурсов классической традиции в творчестве писателя-эмигранта послужит открытию еще непознанных граней его таланта и доказательством органичности единства литературного процесса XX века.
1 Шмелев И.С. Собр. соч.: В 5 т. — М., 2001. - Тг2; -С. 284. Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страницы.
2 Доронченков А.И. Эмшрация «первой волны» о национальных проблемах и судьбе России. — СПб., 2001. — С. 21.
3 Шмелев И.С. и Бредиус-Субботина О.А. Роман в письмах: В 2 т. - М, 2005. - Т. 2.- С. 10.
4 Там же.-С. 361.
5 Карташев А. Лик Пушкина // Пушкин в русской философской критике. — М, 1990. — С. 304.
6 Ильин И.А. Собр. соч.: Переписка двух Иванов (1927-1934). — М., 2000. — С. 47. Далее это издание цитируется в тексте с указанием тома и страницы.
7 Позов А. Метафизика Пушкина. — М., 1998. — С. 282.
8 Франк С. Религиозность Пушкина // Пушкин в русской философской критике. — М., 1990. — С. 380, 381.
9 Шмелев И.С. и Бредиус-Субботина О.А. Роман в письмах: В 2 т. - М„ 2003. - Т. 1. - С. 543.
10 Любомудров A.M. Церковность как критерий культуры // Христианство и русская литература. — СПб., 2D02. - С. 108.
11 Шмелев И.С. и Бредиус-Субботина О.А. Роман в письмах: В 2 т. - М., 2003. - Т. 1. - С. 633.
12 Там же.-С. 515.
13 Шмелев И.С. и Бредиус-Субботина О.А. Роман в письмах: В 2 т. — М., 2005. — Т. 2. — С. 633.
"Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. - М., 1996. - Т. 6. -Кн. 2.-С. 151.
15 Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. - М., 1996. - Т. 6. -Кн. 1. - С. 354.







 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий