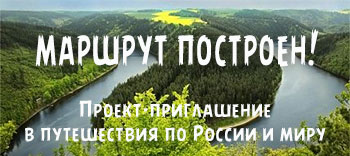Башилова Е. И. «Искусство — самый радикальный утешитель!». О проблеме преодоления отчуждения в ранних рассказах А.П. Чехова
Утверждение, вынесенное в название статьи, взято из иронического контекста рассказа А.П. Чехова «Месть» (1882 г.), который вошел в первый опубликованный писателем сборник «Сказки Мельпомены». Вышедший в 1884 г. он объединил в себе ранние чеховские опыты художественного воплощения судеб людей искусства.
Ключевые слова: ранние рассказы А.П.Чехова, экзистенциальные проблемы чеховской прозы, авторский идеал, интертекстуальность, условно-пародийная сотавляющая поэтики рассказов А.П.Чехова.
Герой рассказа «Месть», провинциальный комик-имярек, уговаривает молодую актрису утешиться по поводу несчастной любви и... одолжить ему на время ее же бенефиса дорогой (в прямом, а для женщины — и в переносном смысле) халат бросившего ее возлюбленного, дабы более убедительно и эффектно играть роль графа. Восприняв отказ как оскорбление, комик срывает бенефис, вывесив у кассы театра объявление о том, что все билеты на вечерний спектакль проданы. Его собственные слова об артистической солидарности, животворящей силе искусства оказываются погребенными под выбросами лавы мелкого самолюбия, злости, агрессивности. Служитель искусства оказывается недостойным самого искусства, да и само оно выглядит здесь бессильным.
Иными словами, искусство в этом рассказе словно теряет свой гуманистический потенциал, как в других произведениях молодого Чехова, оставляет человека одиноким и страдающим исчезнувшие людское сочувствие («Тоска»), способность слышать и уважать друг друга («Злоумышленник», «Дочь Альбиона», «Хористка»), здравый смысл («Лошадиная фамилия»), достоинство и профессионализм («Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Сельские эскулапы») и др.
Вскоре после смерти писателя Л. Шестов — основоположник русского религиозного экзистенциализма — в работе «Творчество из ничего (А.П. Чехов)»1 достаточно категорично заявлял: «Чехов был певцом безнадежности. Упорно, уныло, однообразно в течение всей своей почти 25-летней литературной деятельности Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды <...> Ни одной из них он не просмотрит, ни одна из них не избежит своей участи. Искусство, наука, любовь, вдохновение, идеалы, будущее — переберите все слова, которыми современное и прошлое человечество утешало или развлекало себя — стоит Чехову к ним прикоснуться, и они мгновенно блекнут, вянут и умирают. И сам Чехов на наших глазах блекнул, вянул и умирал — не умирало в нем только его удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди». Экзистенциально-апокалиптический пафос статьи Шестова обращен к зрелому творчеству Чехова. Молодой же Чехов, по мнению Шестова, «весел, беззаботен и, пожалуй, даже похож на порхающую птичку. Свои работы он печатает в юмористических журналах. Но уже в 1888-1889 годах, когда ему было всего 27-28 лет, появились две его вещи: рассказ «Скучная история» и драма «Иванов», которыми положено начало новому этапу творчества. Очевидно, в нем произошел внезапный и резкий перелом, целиком отразившийся и в его произведениях». Шестову, как и другим современникам писателя, был «виден водораздел, отделяющий «серьезного» Чехова от «несерьезного». Однако мало кто из них ощущал присутствие глубоких экзистенциальных проблем у раннего Чехова и композиционно-стилистическое новаторство молодого писателя в решении вечных проблем одиночества и отверженности, нивелировки личности и ее обезличивания. Парадокс умозаключений Шестова заключается в том, что философ, будучи излишне категоричным и сосредоточившись ,в своей критике на зрелом творчестве Чехова, оставил без внимания скептический идейно-тематический пафос Чехова молодого, который, создавая свои юмористические и сатирические шедевры, проверял на прочность прекраснодушные романтические надежды юности, упования людей, обладающих серьезным жизненным опытом, на социальные и религиозно-нравственные институты.
На первый взгляд кажется, что травестия, пародирование, смысловая деконструкция ценностно-содержательных понятий и явлений, которые в романтической и реалистической традиции осмыслялись как высокие или хотя бы позитивно приемлемые — характернейшие для молодого Чехова черты художественного метода. Кажется, что надежд на преодоление отчуждения в любых его формах Чехов почти не оставляет. Но, как справедливо писал в ответ на давние упреки писателю В.Б. Катаев, «Чехов убивал не надежды, а иллюзии»3.
Внимательный читатель за ярким комизмом, в глубине пародийных контекстов прочтет глубокую авторскую тоску об идеале, увидит внутреннюю устремленность к обретению подлинных смыслов бытия, к единению и вере. Как это происходит, какие особенности поэтики служат глубинному смыслопорождению? Ответим на этот вопрос, обратившись к нескольким рассказам, тема которых в самом широком плане может быть обозначена как искусство.
Прежде всего, продолжим анализировать чеховскую «Месть»4. В произведении неоднократно повторяется (заявленная также в сильных позициях текста — начале и конце рассказа) деталь, формирующая образ. Это амплуа героини, в день бенефиса которой разыгрывается маленькая жизненная драма. Амплуа ingenue — актрисы, играющей роль наивной молодой девушки — словно кладет отпечаток на ее внутренний мир. Суровый любовный опыт (ее бросил некто, не имеющий в тексте точных социальных примет) не охладил пылкое чувство. Но ирония заключается в том, что объектом лучших воспоминаний, замещающим предмет любви, становится халат, превращенный в своего рода фетиш («Когда я вижу халат, я думаю о нем И... плачу»), или: Но ирония заключается в том, что лучшие воспоминания о возлюбленном вызывает оставленный им халат, который превратился в своего рода фетиш («Когда я вижу халат, я думаю о нем и... плачу»). Заметим, что авторская ирония пронизана здесь лиризмом (перенесение чувства на предмет, метонимически связанный с дорогим человеком — не редкий в литературе прием, используемый и в любовной лирике5). Комик же, чьи лучшие годы уже позади и чьи надежды также утрачены (с особенной очевидностью — на профессиональном поприще: его «десять лет тому назад приглашали в столичный театр»), превратился в мелкого интригана и вполне соответствует амплуа злодея в жизни. Его мизантропия тотальна и распространяется на мироздание: «С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! "Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет». Очевидна скрытая отсылка к тезису Шопенгауэра о том, что «этот мир — худший из миров» (в свою очередь представляющий собою переосмысление финальной фразы вольтеровского «Кандида» и положения из теодицеи Лейбница: этот мир — лучший из возможных миров). Благодаря комическому контексту шопенгауэровский пессимизм выглядит здесь как неабсолютный, как расхожая «философия» озлобленных пошляков.
Финал рассказа поддерживает эту идейно-стилевую доминанту характера комика, но одновременно «задает» возможность более сложной философской интерпретации. «Вечером же в портретной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и — больше ничего». Лаконизм (столь свойственный Чехову!) последнего предложения обманчив: в нем скрываются те самые смысловые подтексты, которые станут характерной чертой творчества Чехова зрелого периода. Сквозь обозначенную автором пошлость бытовой ситуации просвечивают более глубокие бытийные смыслы. Больше ничего нет в существовании провинциального актера, что бы придавало его жизни смысл, больше ничего не объединяет коллег по артистическому «цеху», больше ничего не узнает читатель о судьбе молодой актрисы. Едва ли не впервые в творчестве Чехова непосредственно в словесном обличье в сильной позиции текста появляется экзистенциальная категория ничто (в род. падеже — ничего). Философско-теоретическое обоснование ее вслед за датским философом-экзистенциалистом первой половины XIX века С. Кьеркегором предложит в своих работах уже названный представитель русского философского ренессанса Л. Шестов. Он в цитированной выше работе максималистски свяжет творчество Чехова с пессимистическими, внерелигиозными поисками смысла жизни, ее бытийных оснований. Не случайно статья Л.Шестова носит название «Творчество из ничего (А.П. Чехов)». Выдающийся немецкий мыслитель-экзистенциалист М. Хайдеггер в 20-е годы XX века поставит Ничто в центр своей интеллектуальной рефлексии. Ничто у Хайдеггера (das Nichts) — есть отрицание всей совокупности сущего, оно — абсолютно не-сущее, тот «просвет бытия», где уже нет и не может быть опоры в сущем, а есть первичная точка онтологического ужаса (der Angst). Принципиально для философии Хайдеггера утверждение, что только в противовес Ничто впервые наше бытие ставится перед сущим как таковым6: Таким образом, Ничто несет в себе творящий человеческое бытие импульс.
В какой мере чеховское мировидение предшествовало хайдеггеровским мировоззренческим штудиям (как и вообще европейской экзистенциальной идее), много ли общего в трактовке основных онтологических категорий (бытие — сущее — несущее/ничто) у русского писателя и немецкого философа, — эти вопросы требуют глубокого и всестороннего рассмотрения. Но очевидно, что смешной рассказ молодого писателя о мелкой мести провинциального шута-трикстера при внимательном прочтении вырастает до «серьезной» истории о природе и функциях Искусства и может быть рассмотрен в указанных метафизических координатах. Претворенное у Чехова в художественном образе финальное Ничто/«ничего» рассказа «Месть» становится словно негативным фоном, на котором: проявляются позитивные смыслы (тоска о любви, взаимопонимании, даже воплощенное в комической форме желание полнее реализоваться в искусстве). Ничто/«ничего» — нулевая точка отсчета для старта читательских размышлений о подлинных ценностях, весомых событиях, которые должны наполнять человеческую жизнь.
Не стоит, думается, делать Чехова непосредственным предшественником Хайдеггера, чей экзистенциализм носил выраженный атеистический характер. Ведь даже в анализируемом маленьком рассказе четко обозначены (выразим мысль предельно осторожно — вследствие неоднозначности и сложности мировоззренческих исканий Чехова) религиозные ориентиры писателя, христианские по своей природе. Месть — явление из области ветхозаветных аксиом («око за око, зуб за зуб»), отринутых христианством; месть изображена молодым Чеховым как ведущая в тупик, в нравственный нигилизм жизненная стратегия. Так название произведения приобретает символический характер, и из обозначения/называния сюжетного казуса — заурядной интриги превращается в многозначный (как и «положено» символу) центральный образ, воплощающий нравственные и философско-религиозные смыслы. Именно в смысловом поле персонажа, потерявшего религиозно-нравственные ориентиры, появляется чеховский травестированный праобраз экзистенциального «ничто»: «пил пиво — и больше ничего».
В речи упорствующей в своем решении героини рефреном повторяется фраза «Ни за что!», которая формирует своеобразный жертвенно-героический ореол вокруг женщины («Я скорей умру, но не отдам!», «Ни за какие деньги!»), не отказавшейся от любви и страдающей в ее отсутствии. Не случайно сорванный бенефис волнует ее прежде всего со стороны моральных, а не денежных потерь: «Меня не любит публика!». Конечно, Чехов высмеивает пошлую экзальтацию провинциальной актрисы. Но как бы ни были комичны и нерациональны ее притязания на вечную любовь к человеку, в котором она сама видит подлеца, в них нельзя не распознать жажды подлинных чувств, жажды веры в непреходящие ценности. Для ingenue драма утраченных иллюзий не повлекла за собой полного опустошения. Фразы повествователя, сочувствующего героине, даже при модальном слове «вероятно» указывают на глубокое созвучие женских эмоций и природы, пусть даже «урбанизированной»: «Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, вероятно, искренно». Казалось бы, вовсе не поэтичное завывание ветра превращается в музыкальный фон, на котором происходят события. Пение ветра — очевидная, но не единственная поддержка героини, переживающей острую боль предательства и отчуждения. Она, эта поддержка, как и сочувствие, ощутимы в тоне повествователя, в сфере его компетенции.
Близкие стратегии преодоления отчуждения воплощаются Чеховым в рассказах «Он и она» и «Барон», впервые опубликованных в 1882 г. и также вошедших в сборник «Сказки Мельпомены».
На первый взгляд, чужие, порой ненавидящие друг друга, друг на друга не похожие ни по привычкам, ни по статусу, ни по возрасту, ни по таланту, муж и жена — герои рассказа «Он и она» — объединены почти мистическими узами, таинственной силой, способной преобразить и человеческие отношения, и самого человека. Эта сила — искусство. Уродливая женщина на сцене предстает красавицей. Гротескный портрет актрисы во внутреннем монологе мужа («у нее нет лба; вместо бровей лежат две едва заметные полоски; вместо глаз у нее две неглубокие щели... Нос — картофелью...») сменяется идеализированным (в его же восприятии): «Нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Когда она, моя жена, начинает петь <...> тогда поглядите на мое лицо и вам откроется тайна моей любви». Аналогичной метаморфозе в повествовании подвергается и портрет мужа. Если повседневность «неравного брака» передана вполне реалистически, даже натуралистически, то волшебные превращения брачной связи известной певицы и ее заурядного мужа романтизированы, их мотивировка дана вне социально-психологической детерминированности (которая, как известно, является важнейшей приметой реализма). В рассказе есть намек на иррациональный характер человеческих привязанностей, попытка зафиксировать в «эллипсовидной» системе персонажей неоднозначность и контрастность характеров и отношений. Таким образом, путь преодоления отчуждения в этом рассказе остается в сфере психологически-иррационального. Автор стремится к безучастному, объективному тону, на фоне которого выделяются эмоциональные и даже экспрессивные голоса героев.
Иной — участливый — авторский тон с первых строк рассказа «Барон» захватывает читателя, вызывая в нем безусловное сочувствие. Облик и привычки театрального суфлера — маленького, худенького старикашки лет шестидесяти, пристрастившегося к спиртному, не имеющему собственного дома, кроме театра — вызывают в памяти персонажей А.Н. Островского. Он, словно окончательно состарившийся и опустившийся Нароков из «Талантов и поклонников», беззаветно влюблен в театр. Суфлерская будка превращается в театральный метафорический алтарь, где герой «исполняет свои священные обязанности». Следующая фраза (при всей ее жестокой реалистичности) вводит в повествование высокий библейский, молитвенный план: «там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба». Обильные реминисценции из Шекспира придают трагикомический колорит образу театрального служителя.
В повествовательную структуру, изначально представленную авторским голосом, проникают конкурирующие «голоса»: это латентный голос самого героя и его театральных недоброжелателей, издевательски прозвавших его бароном и не простивших ему слишком громкого и пафосного % монолога из суфлерской будки. И все же голос повествователя, являющегося alter-ego автора, звучит убедительно, проникновенно и лирично, призывая к сочувствию в отношении обездоленных старостью, маленьких людей: «...из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но увы! Уже разбитый временем и бессильный»; «Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Многое портит и многому мешает старость». В отличие от Гоголя, который в знаменитом лирическом отступлении 6-й главы «Мертвых душ» связывал старость с возможной деградацией личности, Чехов физическое увядание не рассматривает даже как предтечу духовного. Экзистенциальные проблемы переведены здесь из антропологического в эстетический и социально-психологический регистр. Его шестидесятилетний герой полон внутренней духовной энергии, и силы ему дает именно театр, само искусство! В самом профессиональном служении Мельпомене видится автору залог полноты и подлинности бытия, однако отчуждение коренится в социально-нравственных отношениях, царящих в театре. Злоба, зависть, лицемерие, закулисные интриги, сплетни, то, что называется общественным мнением, — вот главные причины трагизма существования человека, положившего свою жизнь на алтарь искусства. Именно пресловутый голос коллективного осуждения «венчает» собой сюжетный и повествовательный строй рассказа: «Не он первый, не он и последний. Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера необходима». Вновь, как и в других рассказах этого «театрального цикла», преодоление отчуждения оказывается осуществленным не в прошлой биографии или протекающей7на глазах у читателя жизни героя, не в сообществе коллег по цеху, а в артистическом духе, рыцарском служении героя музе, в театральной атмосфере, которая создается усилиями подлинных талантов, ярких или незаметных, признанных или безымянных. А главное — в пространстве эстетических возможностях самой повествовательной структуры, в границах авторского голоса, пусть ироничного, но гуманного и сострадательного. Маленький шедевр Чехова — рассказ «Смерть чиновника» — непосредственно не связан с темой искусства: проблема отчуждения реализуется здесь в оппозиции двух чиновников (обладающих, конечно, весьма разными чинами), а точнее — в области психологии и ментальное™ традиционного для русской литературы типа маленького человека — государственного служащего, осознающего свой скромный социальный статус. Однако для того, чтобы расставить новые смысловые акценты и показать изменение психологии этого типа в сравнении с известными героями Пушкина (Самсон Вырин), Гоголя (Акакий Башмачкин) и Достоевского (Макар Девушкин), автор разворачивает центральное событие своей новеллы вне привычной служебной атмосферы. Чехов сталкивает маленького человека и значительное лицо (генерала) в особом художественном пространстве: досадное чихание случается в театре, во время представления. Театральность происходящего и отмеченная исследователями повышенная условность повествования взаимодополняют друг друга. Рассказ приобретает некий басенный, вернее, притчеобразный жанровый колорит. Генерал и экзекутор в театре, а не в профессиональной чиновничьей обстановке, — эта новаторская деталь предполагает оригинальное исполнение известных в литературе партий — социальных ролей двух антиподов. Неофициальная и в то же время «высокая» атмосфера, где зрители в идеале должны испытывать глубокую сопричастность искусству, становится площадкой разыгрывания служебных отношений, но именно психофизический казус, а не деловой конфликт — содержание этих отношений.
Эти принципиальные обстоятельства усиливают условно-пародийную составляющую поэтики рассказа. Для ее раскрытия необходимо обратиться к культурному контексту и скрытым реминисценциям чеховского рассказа. Комическая опера «Корневильские колокола» была написана французским композитором Робером Планкеттом в эклектическом музыкальном ключе, где явственно ощущалась травестия романтических литературно-музыкальных мотивов (чудеса, привидения, тролли, интриги, любовь). В интертекстуальном плане рассказа возникает романтическая новелла Э.Т.А. Гофмана «Дон Жуан» , содержание которой обращено к одноименной комической опере В.-А. Моцарта, написанной на либретто Лоренцо да Понте. Рассказчик в новелле Гофмана — alter-ego автора — испытывает священный восторг события, соучастия с тем, что разворачивается на сцене в опере Моцарта благодаря игре замечательной итальянской актрисы. Неожиданная смерть ее чаще всего трактуется иррационально в духе романтической концепции творческого экстаза и особой связи художника-творца с трансцендентным (запредельным) миром. При этом герой новеллы, переживая мистическую связь с исполнительницей партии Донны Анны, испытывает то «затаенный ужас, который блаженным трепетом пронизал... нервы», то неизъяснимую благодатную скорбь, то величайшую радость восхищенной души. В тексте чеховского рассказа эти мотивы приобретают травестированные черты. Червяков, присутствуя на опере «Корневильские колокола», ощущает себя «на верху блаженства». Однако катарсис здесь замещается казусом, который вводится с помощью маркированного, подчеркнуто литературного «но вдруг», причем автор ведет читателя по пути ожидания псевдокатарсиса благодаря приему ложной аналогии: «лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!!». Объектом «затаенного ужаса» и священного трепета Червякова становятся не образы оперы, не пение исполнителей, а сидящий впереди него старичок, в котором «Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения». У Гофмана образ исполнительницы роли Донны Анны неожиданно открывается герою уже во время представления в локусе его собственной ложи, и «изумление», «испуг», отражение в ее глазах «собственной нелепой фигуры» рифмуется с близким по сюжетной функции («роковая встреча») эпизодом из «Смерти чиновника». «Черняков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал...». Очевидна и сюжетно-композиционная инверсия: умирает не актер или актриса, а зритель, испытавший не эстетическое, а экзистенциальное потрясение, нечто близкое «страху и трепету», если вспомнить знаменитое выражение С. Кьеркегора. Однако страх и трепет здесь — свидетельство фатальной ограниченности и банальной трусости человека, раскрытой в лаконичном комическом повествовании. В новелле Гофмана герой испытывает романтическое отчуждение от социума, ему противопоставлена «толпа», выносящая дидактические филистерские суждения о смерти героини «за общим столом»
«—Вот что значит потерять всякую меру! — Верно, верно! Я без конца твердил ей то же самое!»
Это обычные зрители, персонажи характерно поименованные умник с табакеркой, смуглолицый, незначительный. Отчуждение героя «Смерти чиновника» иного рода: он сам — человек из толпы (толпы зрителей-обывателей), чуждый живой жизни, подлинным ценностям, зацикленный на «неподвижной идее» и не способный к живому восприятию прекрасного. Оказывается ли бессильным в этой ситуации искусство? Ответим так: искусство в его сущностных функциях не нужно герою, поэтому он также оказывается ненужным ему, вечному, несущему эстетическую жизнестроительную энергию людям восприимчивым, открытым красоте, гармонии и добру.
Итак, читатель ранних рассказов Чехова об искусстве пути преодоления отчуждения находит чаще всего вне сюжетных решений, в сфере компетенции повествователя, в области авторского идеала.
1 Шестов Л. Творчество из ничего// Вопросы жизни. — 1905. - № 3.
2 Вопрос об экзистенциальной проблематике произведений А.П. Чехова поставлен в литературоведении. Прежде всего — о предвестии в зрелом творчестве Чехова идей, разрабатываемых в европейском экзистенциализме XX века. См., например: Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П. Чехова. — Л., 1987.— С. 172. Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 1988. — С. 190; Долженков П.Н. Тема страха перед жизнью в прозе Чехова// Чеховиана: мелиховские труды и дни. — М., 1995,— С. 66-70.; Регеци И. Чехов и ранний экзистенциализм // Studia slavika Acad. sci. hung. — Budapest, 1995. - T. 40, fasc. 1-4. - C. 95-104; Дарк О., Авалиани Д. Трилогия. — М; Л., 1996. — С. 75; Кройчик Л.Е. Концепция жизни в произведениях А.П.Чехова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия филология, журналистика. — 2004.— № 2. — С. 7 и др.
3 См.: Катаев В. Б. Проза Чехова: проблемы интерпретации. - М, 1979. - С. 217.
4 Цитаты из рассказов А.П.Чехова приводятся по изданию: Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. - М., 1985.
5 Его последовательное и предельное проявление в лирике — «Баллада о гвозде» Новеллы Матвеевой.
6 См.: Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. - М, 1993. - С. 22 и др.
7 Цитаты из новеллы Э.-Т.А. Гофмана «Дон Жуан» приводятся по изданию: Избранная проза немецких романтиков: В 2 т. - Т. 2. - М, 1979.






 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий