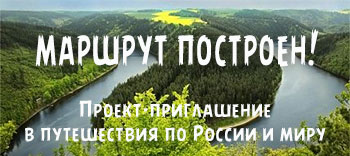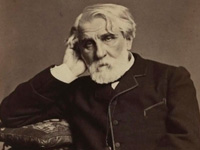Фёдоров А. В. Афанасий Афанасьевич Фет как поэт-мыслитель
Аннотация. В статье предлагается рассмотрение творческой индивидуальности А.А. Фета как поэта-мыслителя. Делается особый акцент на его мировоззренческих взглядах, выразившихся в увлечении учением А. Шопенгауэра и в спорах с Л.Н. Толстым; привлекается обширный эпистолярный материал (переписка поэта с Я.П. Полонским, Л.Н. и С.А. Толстыми, Н.Н. Страховым, К.Р. и др.); дан краткий обзор критических отзывов современников на стихотворные сборники поэта. Особенно подробно анализируется философская лирика Фета (прежде всего - поздняя, периода «Вечерних огней», в которой происходит осмысление универсальных категорий бытия - жизни и смерти, добра и зла, мира и человека, времени и вечности); проводятся некоторые параллели с лирикой Ф.И. Тютчева; прослеживается развитие духовно-религиозной проблематики в творчестве Фета (евангельские сюжеты и мотивы, образ Господа, жанр молитвы и т.п.). В статье ставится вопрос о расширении понятия «поэт-мыслитель» с учетом обозначенной самим Фетом категории «ум сердца». С этих позиций разбирается стихотворение «Жду я, тревогой объят...» из третьего выпуска «Вечерних огней». Рассмотрение творчества Фета как «поэзии мысли» не отменяет, а дополняет его образ в нашем сознании, позволяет представить личность Фета более объемно, уточнить и обогатить представление о реальной сложности и многогранности его художественной натуры, приблизиться к пониманию «лирической дерзости» как «свойства великих поэтов» (слова Л.Н. Толстого об А.А. Фете).
Ключевые слова: А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А. Шопенгауэр, Л.Н. Толстой, мысль, разум, философия, поэзия, духовная проблематика, Бог и человек, универсальные категории бытия, жизнь и смерть, добро и зло, «ум сердца», «лирическая дерзость»
Афанасий Афанасьевич Фет неповторим и неуловим. Знаменитая «лирическая дерзость», когда-то отмеченная Львом Толстым, позволяет ему легко и незаметно переходить границы, совмещать несовместимое и воздействовать на душу читателя звучанием, а не смыслом стиха. Этот воздушный образ в нашем сознании прочно связывается с майской ночью, соловьиной песнью, ликующей радостью бытия и одухотворенной любовью. Кажется, что поэт напрямую играет на струнах сердца, не прибегая к разуму как ненужному посреднику. Кажется, что над его стихами не надо думать...
В школьном изучении можно считать общепринятым противопоставление Ф. И. Тютчева и А.А. Фета по принципу «мысль» - «чувство», «сознательное» - «бессознательное», «медитативное» - «суггестивное» Тютчев - философ, поэтически открывающий и осмысливающий универсальные космические законы бытия Фет - импрессионист, тонко передающий неповторимые душевные движения и впечатления . Для такой антитезы есть определенные основания Прежде всего, они связаны с мировоззренческой и эстетической позицией Афанасия Афанасьевича Фета.
Он неоднократно подчеркивал свое недоверие к разуму как «орудию познания» и в жизни, и в искусстве - иногда сознательно утрируя, заостряя свою мысль, доводя ее до границы абсурда «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик» [12, с . 76]. Поэт - «сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор» (А .А. Фет - Я.П. Полонскому от 31.03 .1890 г.) [1, кн . 1, с . 806]; «.художественное произведение, в котором есть смысл, для меня не существует» (А А Фет - Я.П. Полонскому от 23.01.1888 г.) [Там же, с 627]. Ум для Фета - враг свободы в творчестве: рационально поставленная перед искусством задача, есть следствие утилитарного отношения к поэзии, попытка подчинить красоту, с чем он всегда бескомпромиссно боролся Красота выше ума, точнее, это не соприродные, не сопоставимые понятия: она самодостаточна, она не требует приложения, она не нуждается в дополнениях «Живая красавица или отвлеченная Муза инстинктивно отстраняют свой ум, выдвигаясь исключительно своей непосредственной красотою Той и другой не нужно ничего доказывать, а стоит только войти, и все кругом засияет» (А.А. Фет - С .А. Толстой от 31.03.1887 г.) [1, кн. 2, с . 137] . Не так ли Пьер Безухов, характеризуя Наташу Ростову, вдруг совсем по-фе- товски заметит: «Она не удостоива- ет быть умной Да нет, она обворожительна, и больше ничего» («Война и мир», т . 2, ч . 5, гл. 4) . Красоту бессмысленно анализировать, она живая и поэтому боится скальпеля, ускользает от рационального расчленения, ее нельзя и не нужно пересказывать - только наслаждаться ее близостью, только открывать ее гармонию (см . например: «Кому венец: богине ль красоты...», 1865) .
Представление о «непреднамеренности» лирического высказывания выразилось и во многих стихотворениях Фета, в частности, в знаменитом «Я пришел к тебе с приветом.» (1843), которое завершается дерзким образом: «.не знаю сам, что буду / Петь, - но только песня зреет»1 . Для Фета вообще «песня» и «пение» - обозначение подлинно свободного, то есть нерассудочного творчества Настоящую песню невозможно придумать, запланировать, подготовить, можно лишь почувствовать ее приближение-созревание . Внимание к звуковой стороне слова тоже говорит о том, что Фет сознательно выводит поэзию за пределы «разумного», как будто не признавая за поэтом права и возможности обозначить, осмыслить, обобщить важнейшие тайны бытия . Они непости- гаемы, непознаваемы и невоплотимы в слове - к ним можно лишь прикоснуться, и то благодаря «крылатому звуку», иррациональному озарению, никак не связанным с мыслительным усилием.
Такая позиция вызывала возражения, в том числе со стороны приятелей-единомышленников Дружеский «ареопаг» молодых сотрудников «Современника» (И . С. Тургенев, Н .А. Некрасов, И . И. Панаев, П. В . Анненков, А. В . Дружинин, И.А. Гончаров, В . П. Боткин) требовал переработать и избавить от неясности многие стихотворения Фета при подготовке к изданию сборника 1856 г. «Я пришел к тебе с приветом...» благодаря настойчивой редактуре лишилось последних двух строф (как безапелляционно выразился Тургенев, в концовке поэт продемонстрировал «свои телячьи мозги») В статьях даже сочувственно относившихся к Фету критиков тиражировалось представление о нем как «неглубоком» и «нешироком» мыслителе, как будто весь его дар ушел в интуитивное, бессознательное вдохновение, подавив интеллектуальное развитие: «.г. Фет не поэт какого-либо глубокомысленного воззрения. . . <...> сфера мыслей его весьма необширна, созерцание не отличается ни многосторонностию, ни глубокомыслием...» [4, с . 209-210] .
А представители радикально-демократического лагеря в выражениях, как правило, не стеснялись, обвиняя поэта в узости кругозора и поверхностности: «.Фет не есть поэт мыслящий, страдающий, страстно чувствующий, вообще он поэт совсем не глубокий; интересы жизни - и мировой, и бытовой - с их фило- софиею, с их радостями и скорбями отнюдь не трогают его Он поэт комфорта и тонких наслаждений жизнью.» [16, с . 9-10]; «.нет ясной и положительно сформулированной мысли, а есть робкий, довольно темный намек на нее. < > Слабое присутствие сознания составляет отличительный признак этого полудетского миросозерцания» [10, с . 104]; «Он в стихах придерживается гусиного миросозерцания» [6, с 108]
Парадоксально, но при всем своем пренебрежении к рационализму в творчестве Фет очень ценил ум в людях И сам был мощно одарен в интеллектуальной сфере . «Люди до того поверхностны и глупы, что это даже невероятно - Подумаешь - авторитет, тут-то и похлебаешь настоящих сытных щей (пар над щами тучей носится), а поглядишь - плоская тарелка, у которой сию же минуту дно, по которому валяются чужие объедки, да и те протухлые» (А А Фет - Н Н Страхову от 27.05.1879 г.) [1, кн . 2, с . 178] .
Еще в студенческие годы Афанасий Афанасьевич избежал модного в московской образованной среде увлечения философскими идеями Гегеля Но это не означает (как часто считают), что Фет был в принципе равнодушен к абстрактным, умозрительным, «головным» вопросам и темам Вот замечательное признание в письме к В П Боткину от марта 1866 г .: «Каюсь: для меня моральные вопросы: науки, искусства, любви, религиозных верований и т .д . были не только высшими, но, пожалуй, и единственно реальными в жизни человека, и я обеими руками готов подписать “не о хлебе едином жив будет человек”» [1, кн . 1, с . 443] .
Однако любовь к абстрактным умозаключениям у Фета крепко соединена с неприятием нравоучительности как таковой - для него это попытка примитивно рационализировать то, что неподвластно человеческому разуму. Подлинное знание интуитивно и потому индивидуально, его невозможно «транслировать» на другого человека, потому любые поучения для Фета самонадеянны и бессмысленны. Здесь проходит мировоззренческий «водораздел» между ним и Толстым: «В доброте сердца Льва Николаевича я настолько же мало сомневаюсь, как и насчет его громадного таланта, но что он идет по совершенно несимпатичному мне пути, это он знает . Толстой поучает и потому укоряет; я же только предлагаю желающим понять, что у ангорской кошки спина мягкая, а у ежа колючая, но бранить нежелающих это понять я не намерен» (А А. Фет - К . Р . от 06.05 .1890 г . ) [Там же, кн . 2, с . 827].
Тем не менее, даже признавая философский склад ума у Афанасия Афанасьевича, отдавая должное его интеллекту и практичности (без нее попробуй преврати Степа- новку из пустынного места в цветущее и доходное имение!), многие современники с удовольствием прибегали к схематичной антитезе Шеншина - «крепкого хозяйственника», публициста, умного и расчетливого человека - и Фета - одухотворенного, интуитивного и импрессионистичного поэта Первый, как всякая проза (перефразируя Пушкина), «требует мыслей и мыслей», а второй «должен быть глуповат»: «В философии я признаю и даже высоко ценю отвлеченности, но в поэзии я стараюсь укусить их за ляжку» (А А Фет - Я .П. Полонскому от 23 .01.1888 г.) [Там же, кн . 1, с . 626] . Эта оппозиция позволяет, конечно, упростить сложное, но к пониманию феномена личности Фета все-таки не ведет...
Во-первых, философия и поэзия у Фета часто и плодотворно встречаются Во многом это происходит благодаря знакомству с учением Артура Шопенгауэра Работать над переводом главной книги немецкого философа - трактата «Мир как воля и представление» Фет начал в 1879 г , первая часть была завершена в 1880 г. Во время создания «русского Шопенгауэра» он осознает и не скрывает, что его лирика питается новыми родниками: «.второй год я живу в крайне для меня интересном философском мире, и без него едва ли можно понять источник моих последних стихов» [11, с . 384-385] . Идеи Шопенгауэра поэт принимает сердцем - как философски выраженное собственное задушевное убеждение, к тому же основанное на личном жизненном опыте Например, мыслитель словно обосновывает отвращение Фета к прямому нравоучению в поэзии, которое обязывает поэта принести творческую свободу на ложный алтарь дидактики: «.никто не должен предписывать поэту быть благородным или высоким, моральным, благочестивым, христианским, таким или сяким, а еще менее упрекать его, зачем он то, а не это Он зеркало человечества и доводит до его сознания то, что оно чувствует и делает» [15, с. 258] . «Я... вместе с моим наставником Шопенгауэром утверждаю, что идея существует только в чистом искусстве, тогда как в поучительном произведении только заключается мысль, а не идея», - пишет Фет А. В . Жиркевичу 30.01.1891 г. [1, кн . 2, с . 813].
Многие стихотворения Фета навеяны философскими умозаключениями Шопенгауэра, которые не совершили переворота в сознании поэта, а выразили его прозрения, дали форму его представлениям о мире и человеке . Наиболее показательный пример - дилогия 1864 г. «Измучен жизнью, коварством надежды.», «В тиши и мраке таинственной ночи.», где в качестве эпиграфа и философской установки использованы слова Шопенгауэра: «Равномерность течения времени во всех головах доказывает более, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон; более того, что все видящие этот сон являются единым существом» [15].
Во-вторых, «мыслящая поэзия», обращенная к вечным законам мироздания, так же органична для творческой индивидуальности Фета, как и его пейзажная лирика2 . Можно говорить о своеобразном «тютчевском» цикле стихотворений Фета, где он осознанно движется по пути старшего современника - которого, кстати говоря, очень ценил как поэта и любил как человека.
В конце 1850-х гг. создается поэтическое видение «На стоге сена ночью южной.», где ключевое понятие «бездна» словно позаимствовано из стихотворения «День и ночь» (1839) Ф . И . Тютчева. Правда, у Фета космическая картина погружения человека в ночь дана не как философское обобщение, а как личностное переживание:
Я ль несся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.
Многие фетовские стихотворения позднего периода («Вечерние огни») посвящены лирическому познанию ключевых категорий бытия - жизни и смерти («Смерть», 1878), добра и зла, мира и человека Вот, например, каким ярким поэтическим афоризмом завершается стихотворение «Смерть»:
Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь - базар крикливый Бога,
То только смерть - его бессмертный храм .
Дважды повторенная слепота характеризует земной путь человека, слишком доверяющегося ненадежным «поводырям» собственных чувств . Что же откроет ему глаза? Видимо, только смерть Именно в ней базарные крики затихнут и зазвучит молитва.
В стихотворении «Добро и зло» (1884)3 поэт подчеркивает сущностный дуализм мироздания - макро- и микрокосма, внешнего бытия и человеческой мысли . Они взаимно отражены и обусловлены Но различение добра и зла необходимо и неизбежно только в земном, «слишком человеческом» пространстве . А если «крыла гордыни» поднимают душу на Божественную высоту (вновь звучит любимое фетовское понятие дерзости как дерзновения, преодоления границ - «познать дерзаешь ты как Бог»), то вместе с чудесным даром всезнания и всемогущества душа получает возможность освободиться от категорий добра и зла как ненужного тяжкого груза:
Пари всезрящий и всесильный,
И с незапятнанных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадет 4.
К философской лирике можно смело отнести и стихотворение «Бабочка» (1884), где природный образ возвышается до символа кратковременности и красоты земного бытия . Вопросы о его цели и смысле бесплодны: нужно жить, пока есть дыхание («воля к жизни»), без усилий и сомнений, потому что они ни к чему не ведут, они от разума, а не от духа - с ними не взлетишь.
В том же году написанное стихотворение «Ласточки» («Природы праздный соглядатай...») построено на любимом тютчевском приеме - развернутой аналогии с миром природы, которая дает возможность образно и ярко представить какую-то общую закономерность человеческого существования Наблюдение за ласточками (вообще крылатость как буквальное и метафорическое свойство - очень частый мотив в творчестве Фета), которые в полете над водной гладью как будто оказываются на границе с чуждой и опасной водной стихией, приводит «природы праздного соглядатая» к выводу о постоянном стремлении человека за пределы отведенного ему пространства. В этом сущность поэтического вдохновения как порыва к миру идеальному Аналогия, разделяющая стихотворение на две части, обозначена прямо, при помощи оборота «не так ли»:
Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?
На память естественно приходят тютчевские строки из стихотворения «Смотри, как на речном просторе.» (1851), где также картина исчезающих в морской бездне льдин перерастает в философское обобщение:
О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?
Еще одно показательное стихотворение этого условного цикла - «Фонтан» (1891) - уже своим названием отсылает читателя к одноименному творению Тютчева (1836), где струя фонтана, взмывающая ввысь и ниспадающая обратно, сравнивается со «смертной мыслью», вечно стремящейся к пределу, который обозначен «незримо-роковой» «дланью». У Фета фонтан как самостоятельный персонаж получает право голоса, и большая часть стихотворения представляет собой его развернутый монолог Он уже не только живая иллюстрация ограниченности человеческой мысли, он заключает в своем образе сразу все категории бренного человеческого бытия:
- Я, и кровь, и мысль, и тело -
Мы послушные рабы:
До известного предела
Все возносимся мы смело
Под давлением судьбы.
Если у Тютчева тема судьбы была связана с невозможностью победить закон «всемирного тяготения» (то есть «длань» ставила предел человеческому стремлению, разворачивался поединок смертной мысли с безликим и слепым роком), то у Фета судьба является и источником, и условием этого движения вверх: ее «давление» на «послушных рабов» заставляет их подниматься «до известного предела» - также определенного ей . Конечно, поединок у Тютчева неравен и потому трагичен, но картина, созданная Фетом, кажется еще безнадежнее: человек вообще в конфликте не участвует, ибо не обладает свободой и самостоятельностью . Судьба поднимает его, как безвольную игрушку, - и она же его низвергает обратно . Она как бы играет сама с собой, у нее нет противников, пусть даже и заведомо слабейших. Поэтому в определении «смело» можно расслышать горькую иронию - какая уж там смелость у рабов... Все завершается возвращением - обратно в небытие:
К сердцу кровь опять вернется,
В водоем мой луч прольется,
И заря потушит ночь.
Интересно еще и начало стихотворения, где лирический герой неожиданно показывает себя в родственной компании - с ночью (вообще любимым художественным временем Фета, особенно в майском варианте) . Никакой дистанции между ними, никакой аналогии, они просто рядом - как «он» и «она», они совершают одинаковые действия и, судя по всему, друг друга хорошо понимают:
Ночь и я, мы оба дышим,
Цветом липы воздух пьян.
Композицию стихотворения можно назвать кольцевой, увидев неслучайность повторения первого и последнего слова: ночь. И парадоксальной до дерзости кажется финальная метафора «заря потушит ночь», ведь тушить в данном контексте означает «гасить свет», что прямо противоположно значениям «зари» (свет, восход, закат, солнце) и «ночи» (мгла, бездна, темнота) Получается, что свет потушит тьму! То есть выступит в роли тьмы! И у ночи тем самым обнаруживается. свет - как органическое свойство . А может быть, заря отправит в небытие не просто ночь, а лирическое «я», родственно соотнесенное с ночью? Так время суток вырастает до обозначения временности жизни - хрупкой и быстротечной, как пьяное цветение липы.
Стоит заметить, что при всей близости художественных миров двух поэтов Фет почти никогда не покидает пределы лирического «я», осмысливая общие законы бытия через собственную личную судьбу - как свое индивидуальное лирическое переживание . Поэтому он гораздо реже стремится к формулировке, четкому лаконичному итогу-афоризму, обобщенно выражающему суть постигнутого . Тютчевскую максиму «Мысль изреченная есть ложь» («Silentium!», 1830) Фет ощущал своим поэтическим сердцем, как никто другой.
В-третьих, онтологическая, духовная поэзия Фета показывает его как глубокого религиозного мыслителя. Еще в 1842 г. , в самом начале своего творческого пути, Афанасий Афанасьевич пишет чудесное по целомудренной чистоте религиозного чувства стихотворение-молитву «Ave Maria». Вообще «тихая», благоговейная интонация характерна для его стихотворений, посвященных великим таинствам схождения Неба на землю . См . , например, рождественское «Ночь тиха - по тверди зыбкой.» (1842 или 1843).
Но в поздний период творчества, начиная с 1870-х гг . , религиозно-христианская тема обретает широкое, мощное дыхание в лирической вселенной Фета Евангельские сюжеты и образы не просто перелагаются поэтическим языком, а личностно интерпретируются, наполняются сложным комплексом переживаний-ассоциаций, напрямую не связанных с первоисточником.
Так, в стихотворении «Когда Божественный бежал людских речей.» (1874) эпизод искушения Христа в пустыне осмысливается в контексте мотива «пророк» и «толпа», что усиливает неочевидную в евангельском контексте антитезу Бога-Слова и суетных людских речей, а эпитет «празднословной» напрямую отсылает к пушкинскому определению «грешного языка» в «Пророке» (1826). Тем самым христианская проблематика произведения - победа Сына Божьего над «князем мира»5 естественно расширяется за счет важной для Фета «эстетической» идеи ложности и порочности человеческого языка, утратившего свою связь с первоисточником и ставшего лишь вместилищем порока («гордыни») Поэтому Иисус и «бежит» от «людских речей»: они фактически вобрали в себя всю суетную мнимость внешнего мира Получается, что люди для Христа - большее искушение, чем сатана! И Спаситель «внимает голосу пустыни», как лермонтовский пророк, которого «звезды слушают», «лучами радостно играя» Только в отличие от горько-ироничной концовки стихотворения Лермонтова фетовская история завершается, как и положено, торжественно-победным аккордом: «И сатана исчез - и ангелы пришли / В пустыне ждать Его велений» Судя по всему, возвращение в мир и к людям для исполнения великой миссии состоится именно благодаря трудному преодолению искушений Хотя этот финал можно прочесть и с другой интонацией: Христос так и не покинул пустыню для проповеди истины Как звезды у Лермонтова, ангелы у Фета лишь подчеркивают одиночество, неотмирность Сына Божьего Ибо мир погряз во грехе И недостоин спасения 6.
Некоторые фетовские стихотворения очевидно наследуют традиции духовной оды, характерные для переложений псалмов и торжественного воспевания Творца в отечественной поэзии эпохи классицизма (например, «Утреннее размышление о Божием Величестве» и «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния» М В Ломоносова). Стихотворение «Не тем, Господь, могуч, непостижим.» (1879) построено на антитезе: всесилие Творца непостижимо не потому, что сотворенный им мир грандиозен и строен, велик и чудесен (удивительная перифраза солнца найдена Фетом: «мертвец с пылающим лицом»), а потому, что слабый и суетный человек - лирический герой - чувствует внутри себя это неизмеримое величие, побеждающее время и пространство Фет сознательно обращается к одному из ключевых источников этой темы в русской поэзии - оде Г. Р . Державина «Бог», где звучит знаменитое определение человека, обретающего могущество, власть, смысл только благодаря Господу: «Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю».
Строка из этой оды поставлена эпиграфом к стихотворению «Я потрясен, когда кругом» (1885). Здесь тоже главным композиционным принципом становится противопоставление, развивающее тему «внешнее-внутреннее» в несколько ином аспекте: «шум-тишина» Потрясение природными, стихийными бурями не ведет к сердечному постижению тайны бытия, для этого нужна немота, нужен «светлый ангел», который шепчет «неизреченные глаголы» В лирическом сюжете словно проступает история пушкинского пророка.
Обращается Фет и к жанру поэтической молитвы, перелагая стихами самую известную молитву христианского мира - «Отче наш» («Чем доле я живу, чем больше пережил », между 1874 и 1886) . Лирический герой, приходящий к пониманию светлой мудрости известных с детства слов, в конце обращения к Отцу Небесному вдруг заменяет лукавого как имя дьявола («Избави нас от лукавого») на лукавое как определение самомнения («И от лукавого избави самомненья») Но это выглядит подменой и искажением смысла лишь на первый взгляд: дьявол и есть гордыня человеческая Избавившись от самомнения, душа освобождается от лукавого.
В своеобразном духовном цикле Фета есть и внутренний диалог с самим собой, звучат сомнения и неверие, рожденные горьким опытом земного бытия Стихотворение «Ничтожество» (1880) начинается с резкого и честного обращения: «Тебя не знаю я» Сюжет как будто автобиографичен, лирический герой рассказывает об этапах своего пути - от мучительного появления на свет - через надежду юности - через ошибки и обманы, утраты и заботы - к пониманию безответности вопросов, к осознанию неизбежности незнания (оно «прискорбно», но не «страшно») - к готовности вернуться в «тот край», который покинул при рождении Кольцевая композиция стихотворения отражает и «кольцо» земной жизни человека вообще: она начинается переходом границы и заканчивается тем же самым. Двойная дерзость. Хотя и невольная. Что там - за границей?
Что ж ты? Зачем? -
Молчат и чувства и познанье.
Чей глаз хоть заглянул на роковое дно?
Ты - это ведь я сам.
Ты только отрицанье
Всего, что чувствовать,
что мне узнать дано.
Парадоксально получается, что диалог с неназванным Господом - диалог с самим собой . Но почему тогда Он становится отрицанием всего земного опыта лирического героя? Не подтверждает ли это любимую мысль Фета о ненужности и невозможности смешения мира духовного с миром человеческого существования? В них действуют разные законы Чтобы познать Господа, нужно отказаться от «всего, что чувствовать, что мне узнать дано» . А это невозможно - ведь не дано И значит ничтожество - естественный удел человека, несмотря на таинственное совпадение в нем Творца и твари.
Одно из самых мрачных стихотворений религиозной тематики - «Аваддон» (1883) Насыщенное ветхозаветной и апокалиптической символикой, оно не просто возвещает неизбежность смерти, но и реализует ее в подчеркнуто телесном, плотском, зримом аспекте: уничтожение в конце времен станет не результатом, а процессом - мучительным и нескончаемым: «Пусть же изведает всякая плоть, / Что испытания хочет Господь!».
Своеобразный личный апокалипсис описан в стихотворении «Никогда» (1879) . Наличие сюжета позволяет соотнести его с жанром баллады: лирический герой оживает, выбирается из склепа и постепенно убеждается, что все на земле умерло: люди, животные, растения. Планета застыла в последнем зимнем сне Конец света настал . Но архангельская труба «вострубила» почему-то только для одного мертвеца, заброшенного обратно в мир, так хорошо ему знакомый при жизни и потому теперь страшный своей безжизненностью Возможно, в фантастическом видении обыгрывается характерный для субъективно-идеалистической философии мотив исчезновения мироздания со смертью его воспринимавшего субъекта. Здесь как будто проведен эксперимент - и субъект возвращен обратно . Мир не исчез буквально, но из него вынута душа, он покинут. И то вселенское одиночество, на которое обречен лирический герой, не слаще самых изощренных адских мучений.
Тема смерти как закономерного итога земного пути неоднократно возникала в творчестве Фета И почти каждый раз ее трагизм (исчезновение неповторимого «я») был приглушен, даже преодолен Помогала этому всесильная природа, милосердно включая в свое вечное умирание-обновление и слабого человека, который на пороге зимы, перед «последним новосельем» вдруг обретал мудрую и спокойную ясность:
Но все мечты, все буйство первых дней
С их радостью - все тише, все ясней
К последнему подходят новоселью.
(«Жизнь пронеслась без явного следа.», 1864)
Помогало этому и смирение перед неизбежным финалом, принятие того, что ты изменить не в силах, душевное приобщение к тихому братству уже ушедших из этого мира:
Стремлюсь куда-то, вдаль спеша,
Но встречу с тихими гробами
Смиренно празднует душа
(«Не первый год у этих мест», 1864)
Хоть смерть в виду, а все же нужно жить;
А слово: жить - ведь значит: покоряться.
(«Ей же», 1879)
Помогала этому и удивительная духовная сила поэта Он смело смотрит в лицо неотвратимой смерти, он называет ее по имени («Смерти», 1856 или 1857), он разговаривает с ней по праву сильного, понимая умом и сердечно принимая мудрость древнегреческого философа: «.самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже
нет Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют» [17]
Покуда я дышу - ты мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.
(«Смерти», 1884)
«Вообще же в размышлениях Фета о смерти лишний раз сказывается та крепость его натуры, та столь привлекавшая и Толстого и Страхова его “жизненность”, которая давала ему силу торжествовать над смертью не только в эстетическом, но и в психологическом плане» [3, с 625]
Но Фет не был сверхчеловеком. И святым он не был. Поэтому приближение финала он все равно ощущает как болезненную угрозу исчезновения - не себя как «сосуда скудельного», а божественного огня, пылавшего в этом сосуде Огонь без сосуда тоже погибнет: ночь поглотит, «потушит» и его И эта потеря ничем никогда не окупится.
Не жизни жаль с томительным дыханьем, -
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя
(«А.Л. Бржеской», 1879)
Наверное, именно поэзия наиболее полно и объемно отразила сложные религиозные поиски Афанасия Афанасьевича Фета, поскольку она, так же как и вера, вестница высшего мира, недоступного для разума и противоположного обыденному существованию . На этом хрупком балансе выстраивает поэт свое жизненное гнездо, понимая, что любое нарушение равновесия грозит гибелью - тела или души «Вся беда, по-моему, состоит в смешении мира внутреннего, душевного, с миром внешним и его
непреложными законами Там идеал, здесь действительность; там ясно и на вечные времена выраженный закон Моисея, запрещающий известные деяния отрицательною частицею не; здесь общее указание Христа на идеальное стремление души к любви ближнего, далеко опережающей холодный закон, но не отменяющей его в гражданской будничной жизни “Отдай рубашку” не отменяет закона “не укради” . <.> Поэзия и христианство только потому так и дороги, что заставляют забывать будничную жизнь, к которой неприложимы “Царство Божие внутри вас есть”, а не во внешнем мире» (А А Фет - К. Р . от 01.12 .1891 г. ) [1, кн . 2, с . 930].
Наконец, следует уточнить наше представление о поэте-мыслителе . Уточнить, то есть расширить. Во второй половине 1860-х гг . Фет делится с Толстым сокровенными размышлениями о двойной природе ума, отдавая приоритет не голове, а сердцу: «Как жаль, что я не узнал от вас, умно ли ваше сердце или нет? У вас умная голова, но мне вы человек дорогой и мне этого мало Все доказательства умные или глупые только орудия ума сердца - т е внутренней суммы убеждений - аксиом, - а ум головной только к услугам сердца, чтобы наилучшим образом отстоять то, чего желает сердце» (А А Фет - Л . Н . Толстому от 28.02 .1867 г. ) [Там же, с 29] И находит в Толстом горячее сочувствие: «От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как вы называете . (Еще за это письмо вам спасибо большое . Ум ума и ум сердца - это мне многое объяснило)» (Л Н Толстой - А .А. Фету от 28.06.1867 г. ) 7.
Пренебрежение Фета к познающим возможностям разума отнюдь не мешает ему быть настоящим мыслителем Ведь умным может быть и сердце, как в романе Ф. М . Достоевского «Идиот» однажды выразилась Аглая, вдруг поняв сокровенное о князе Мышкине: «Есть два ума: главный и неглавный» (ч. 3, гл. 8) . И вот это мыслящее - чуткое, зрячее, открытое, понимающее - сердце определяет своеобразие фетовской картины мира в большинстве поздних стихотворений См , например, «Осень» (1883), «Учись у них - у дуба, у березы.» (1883), «Есть ночи зимней блеск и сила.» (1885), «Осенняя роза» (1886), «Устало все кругом, устал и цвет небес.» (1889), «Еще люблю, еще томлюсь.» (1890), «Ель рукавом мне тропинку завесила.» (1891) . Можно предположить, что мыслящее сердце для Фета означает - прикоснувшееся к тайне бытия Попытки перевести эту тайну в слова обречены на искажение и утрату Поэтому разум все-таки вторичен, он не соперник, а слуга Поэтому «звук» и «песня» важнее слова: в них пульсирует мысль «неизреченная», а значит, подлинная И доступная лишь сердечному взору - точнее, слуху.
Обратимся к одному из шедевров «Вечерних огней»: «Жду я, тревогой объят.» (1886)8. Ситуация напряженного ожидания любимой, заданная с самого начала, разворачивается в лирический сюжет, наполненный действиями - «безглагольный» Фет использует здесь целых 14 глаголов и глагольных форм! Причем от 5 до 14 строки эти действия в основном совершаются не лирическим героем, а «объектами» внешнего мира - мира природного На какой-то период он становится вынужденным наблюдателем чужой жизни, не принадлежа ей Но это лишь кажущееся отчуждение Потому что все, что его окружает, - звучит Мир улавливается прежде всего слухом, пронзительно обостренным, настроенным различить в пространстве самое дорогое - шаги возлюбленной Поэтому даже плавное падение листка, почти беззвучное, по сравнению с пением-плачем комара или оборванной струной летевшего жука или хриплым зовом коростеля, - все равно становится штрихом к звуковой картине мироздания Все эти звуки соединяются с лирическим героем через центральный образ стихотворения: слух-цветок.
Удивительно, насколько точно поймано физическое, почти зримое ощущение: человек весь превратился в слух Кстати, ухо ведь действительно напоминает чашку цветка, который, раскрываясь и увеличиваясь в размерах, жаждет уловить солнечный луч. Только. цветок здесь полуночный! Действительно, по некоторым признакам, свидание должно произойти ночью (или в вечерних сумерках) - кусты спят, коростель птица ночная. Может быть, и поэтому все видимое как бы преобразуется в слышимое, это обостренный слух слепого. Но какие же цветы распускаются ночью? Особенно в средней полосе России? Можно вооружиться справочной литературой по ботанике и узнать, что это маттиола, душистый табак, вечерница (ночная фиалка). Так что здесь нет нарушения жизненной правды Однако вряд ли поэт указывает на какой-то конкретный цветок или даже обобщает в этом образе все растения, ночью цветущие.
А что если имеется в виду чудесный цветок - цветок папоротника?
Тот самый, который, согласно народным поверьям, распускается именно в полночь и дает его обладателю почти всемогущество: помимо способности видеть зарытые клады это и умение понимать язык животных, становиться невидимым или принимать любое обличие . И этим цветком становится лирический герой - понимая язык всего живого, как бы растворяясь в этом ночном, звучащем мире, плача вместе с комаром, обрывая струну своего ожидания вместе с жуком, призывая подругу вместе с коростелем-дергачом...
А теперь ударное место - финальные строки «Ах, как пахнуло весной! . . / Это наверное ты!» Ожидание увенчалось - пусть и с оговоркой «наверное» - приходом ее (в наиболее авторитетном издании «Вечерних огней» в серии «Литературные памятники» это слово не выделено запятыми, что сообщает ему смысловой оттенок, характерный для XIX столетия, - не предположительности, а окончательной верности - наверняка). Но насколько же внезапно это происходит: он ждал ее слухом, ловил звук ее шагов - а она пришла осязанием и обонянием (пахнуло - повеяло, то есть подуло и запахло одновременно), беззвучно И мы понимаем, что ничего не может быть точнее этого сравнения прихода любимой с весной . Всегда неожиданной . И всегда неизбежной Которая проникает в нас независимо, помимо ожидания или воли - не стуком капели или солнечным светом - именно ароматом.
И все обретает смысл, а мир приобретает прозрачный объем, доступный не только всем пяти внешним чувствам, но и внутреннему. Сердце цветет (ср .: «Раскрываются тихо листы, / И я слышу, как сердце цветет.» - «Я тебе ничего не скажу.», 1885) .
Наверное, важнейший ключ к определению мыслящего сердца - это сердце любящее . Женщину, природу, родину, Бога. Сущность мира - любовь Разум ее никогда не вместит, и Фет это прекрасно понимал Не отказываясь от ума, ценя и применяя его, но в той сфере, которая для этого предназначена: дела житейские, судейские, хозяйские и т п И это тоже естественная, необходимая и органичная сфера личностной реализации Афанасия Фета - человека сложного и при этом цельного Рассмотрение его творчества как «поэзии мысли» не отменяет, а обогащает его воздушный образ в нашем сознании, позволяет посмотреть на эту личность как бы «двумя глазами», то есть увидеть ее объемно.
Может быть, его главная загадка - лирическая дерзость - и состоит в гениальном умении совмещать такие противоположные стихии бытия, как поэзия и проза, ум и чувство, возвышенность и глубина, воздух и почва? Но ведь каждый человек состоит из души и тела, каждый добывает хлеб насущный и понимает, что не хлебом единым Это в принципе наш общий удел - совмещать. Не смешивая.
1 . А .А . Фет и его литературное окружение: В 2 кн . / отв . ред . Т . Г . Динесман . М . , 2008-2011.
2 . А .А . Фет: материалы и исследования . Вып . 1-3 / отв . ред . Н . П . Генералова, В . А. Лукина. СПб 2010-2018.
3 . Благой Д.Д. Мир как красота (О «Вечерних огнях» Фета) // Фет А.А. Вечерние огни.
М. , 1971.
4 . Боткин В.П. Литературная критика . Публицистика. Письма . М . , 1984.
5 . БухштабБ.Я. А .А . Фет: очерк жизни и творчества . Л . , 1990.
6 . Зайцев В.А. Избранные сочинения: В 2 т . Т . 1 . М . , 1934.
7 . Кошелев В.А. Афанасий Фет: преодоление мифов . Курск, 2006.
8 . Маймин Е.А. Афанасий Афанасьевич Фет: книга для учащихся . М . , 1989.
9 . Макеев М. Афанасий Фет . М . , 2020.
10 . Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т . Т . 5 . М . , 1966.
11 . Толстой Л.Н. Переписка с русскими писателями: В 2 т . М 1978. Т . 2 .
12 . Фет А.А. О стихотворениях Ф . Тютчева // Русское слово . 1859. № 2 .
13 Фет А.А. Стихотворения и поэмы Л , 1986
14 . Фет А.А. Наши корни . Публицистика . СПб . ; М . , 2013 .
15 . Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / пер . А .А . Фета . 4-е изд . СПб . , б . г.
16 . Э-н Е. Стихотворения А .А . Фета // Библиотека для чтения . 1863. № 9-10 .
17 . Эпикур. Письмо к Менекею . URL: http://ancientrome .ru/antlitr/t.htm?a= 1358238790 (дата обращения: 02.09.2020) .
Федоров Алексей Владимирович, доктор филологических наук; главный редактор издательства «Русское слово»; учитель литературы средней школы № 1516,
г . Москва

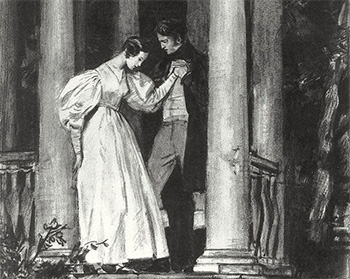




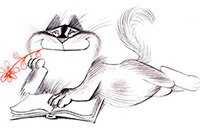
 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий