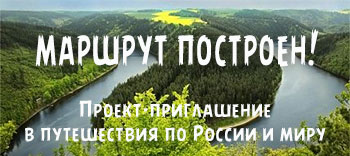Злочевская А. Жанровый парадокс «Капитанской дочки» А.С. Пушкина
В основе жанра «Капитанской дочки» лежит парадоксальное сочетание исторического романа и сказки. Смысл парадокса в том, что на историческом материале Пугачевского бунта как примере непримиримого противостоянии народа и дворянства найти возможную модель единения этих социальных групп. Такое единение возможно, как показал Пушкин, но только на уровне нравственном – в сфере человеческих отношений. И лишь при сказочном стечении обстоятельств, которое и организует Автор. В статье также выявлен и проанализирован ранее в литературе не описанный конфликт внутри концепта дворянской чести – между честью личной и слуги государева.
 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка» изучают в 9м классе средней школы. Считается, что это произведение достаточно простое и доступно пониманию подростка. Однако пушкинская «простота» представляет собой феномен совершенно особенный: он таит в себе бездну парадоксального смысла. Ведь, как сказал сам А.С. Пушкин, «гений – парадоксов друг».
Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка» изучают в 9м классе средней школы. Считается, что это произведение достаточно простое и доступно пониманию подростка. Однако пушкинская «простота» представляет собой феномен совершенно особенный: он таит в себе бездну парадоксального смысла. Ведь, как сказал сам А.С. Пушкин, «гений – парадоксов друг».
«Капитанская дочка» (1836) – исторический роман (или повесть), вальтерскоттовского типа. Вымышленные герои здесь живут и действуют в «реальной» исторической ситуации, контактируя с «реальными» историческими лицами. В данном случае это ситуация Пугачевского бунта, а главные герои с этим страшным человеком непосредственно контактируют. Таково общепринятое и в сознании читателя, как «простого», так и профессионального, определение жанра произведения.
Однако М. Цветаева в работе «Пушкин и Пугачев» внесла поистине революционные коррективы в это традиционное представление: она обратила внимание на сказочный подтекст произведения [1]. Утверждение неожиданное, даже шокирующее и оттого серьезного развития в пушкинистике, к сожалению, не получило (одно из немногих счастливых исключений – статья А. Варламова [2]).
А ведь роман и в самом деле выстраивается по моделям волшебной сказки. Гринев – Иванушкадурачок (фонвизинский Митрофан), выходит в мир и оказывается умнее всех, завоевывает прекрасную девицу Марию Миронову, освободив ее из плена герояантагониста – злодея Швабрина. Побеждает Иванушкадурачок не столько благодаря силе, уму или исключительной храбрости, а благодаря доброму сердцу: все его добрые поступки (отдал карточный долг Зурину, поблагодарил мужика, который вывел их из пурги и др.) возвращаются ему с торицей. Даже перешедший на сторону бунтовщиков урядник, указавший Пугачеву на капитана Миронова как на коменданта крепости, оказывает Гриневу важную услугу: передает записку от Маши. Добрый, открытый миру молодой человек всегда – центр притяжения дружеских чувств. На пути герою встречается и будущий «волшебный помощник» – Пугачев, а подаренный тому заячий тулупчик оказывается «волшебным предметом». Амплуа Савельича схоже с функциями прелостерегающего «помощника» типа «серого волка». Сюжет также развивается по схеме волшебной сказки: герой проходит все испытания и в итоге получает награду [см.: 3;4]. В этом смысле калмыцкую сказку, рассказанную Пугачевым, следует признать жанрообразующей.
Жанровый комплекс сказки закономерно дает отросток в виде мистического пласта повествования. Уже в первой главе начинают мелькать фразы, пророчески намекающие на будущее развитие событий. Так, заканчивая главу «Сержант гвардии», повествующую о его проигрыше Зурину, Гринев замечает: «С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когданибудь увидеться» [5.6,265]. Этот намек, впрочем, еще легко объясним рационально: ведь свои «Записки» Гринев пишет спустя много лет после рассказанных событий – уже в царствование Александра I, а потому знает будущее. Но вот реплика Савельича, который отговаривал Петрушу ехать в буран: «И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» [5.6,268] А ведь действительно спешил Гринев навстречу своей судьбе, а в конечном итоге, на свадьбу!
Затем частицы мистической реальности сгущаются в снежное облако, а из него возникает Вожатый – будущий «волшебный помощник» Гринева : «я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели… Вдруг увидел я чтото черное. “Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что там такое чернеется?” Ямщик стал всматриваться. “А Бог знает, барин, – сказал он, садясь на свое место, – воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек”» [5.6,268]. Оказалось, человек – причем тот самый мужик «с черной бородою» [5.6,269] и «огненными глазами» [5.6,319], которому предстоит решать судьбу Гринева.
И наконец, апогей мистического нарратива «Капитанской дочки» – знаменитый пророческий сон Гринева [5.6,269270]. Здесь – матрица судьбы главного героя, всех последующих событий романа: и ужасы кровавого бунта, и то, что встреченный на дороге мужик окажется главарем бунта и станет посаженным отцом Гринева.
Обратим внимание на такую странность: Гринев дважды не узнает Пугачева – сперва, проснувшись после своего пророческого сна, когда видит того наяву в трактире, а затем – после взятия Белогорской крепости, когда Пугачев едва не отправляет его на виселицу. Уж и вправду, не оборотень ли тот? То ли волк, то ли человек, то бродягаразбойник, то царь Петр III, то, наконец, Емелька Пугачев. Настоящий он – только в финале «Капитанской дочки», на эшафоте.
По тонкому наблюдению Н. КондратьевойМейксон, образ Пугачева в «Капитанской дочке» неизменно подсвечен мотивом метели, зимы, холода [6]. А это навевает ассоциации с дьяволом – ведь холод его стихия. Вообще ситуация первой встречи Гринева с Пугачевым явно перекликается со стихотворением «Бесы» (1830). Так что если и есть в пушкинском Пугачеве, как считала М. Цветаева, очарование, то это очарование зла.
Почему же этот злодей вдруг творит добро? У Пушкина этот парадокс мотивирован вполне четко: «Пугачев был, видно, в припадке великодушия» [5.6,319]. А еще более определенно – в эпиграфе к главе «Мятежная слобода»:
«В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп.
“Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?” —
Спросил он ласково» [5.6,329] .
Итак, исторический роман + сказка! Жанровый симбиоз парадоксален в высшей степени. Ведь первая его составляющая предполагает устремленность к максимальной достоверности (этот вектор, правда, существенно ослаблен вальтерскоттовской моделью), а сказка – беспредельный полет фантазии. В чем же смысл сего жанрового парадокса? Зачем соединил Пушкин два, по существу, противоположные жанровые доминанты? Эти вопросы до сих пор остаются в пушкинистике без ответа.
М. Цветаева считала, что Пушкин таким образом выразил свою «зачарованность» личностью Пугачева. «Зачарована» была, конечно, сама поэтесса, чей романтический дух неизменно устремлялся ко всему исключительному, бунтарскому и оппозиционному.
И все же проблема «двух Пугачевых» – вора и злодея в «Истории Пугачевского бунта» или великодушного сказочного «мужицкого царя» в «Капитанской дочке», существует [7]. И она неотделима от вопроса о том, являются ли «История Пугачевского бунта» и роман «Капитанская дочка» единым диптихом или различным видением исторического события Пугачевского бунта – взглядом Пушкинаисторика и Пушкина – писателя, сочинителя и художника. Доктор философских наук Л.А. Калинников рассматривает оба произведения как диптих, в основе которого этическое учение И. Канта: «Пушкин видит в морали опору для разрешения самих социальных проблем, как бы остры они ни были. В этом заключен основной смысл романа и всего двухчастного целого» [8,127].
Аналогично понимал смысл «Капитанской дочки» и Ю.М. Лотман: «Невозможность примирения враждующих сторон и неизбежность кровавой и истребительной гражданской войны открылись Пушкину во всем своем роковом трагизме» [9,219]. Преодолеть трагический конфликт «между дворянским и крестьянским мирами», считал ученый, может только одно – признание приоритета человеческих, гуманистических ценностей в отношениях между людьми и обществе в целом.
Думается, однако, что «основной смысл» «Капитанской дочки» не только и не столько в том, чтобы, воссоздав две версии одного события и одной исторической личности – научноисторическую и человеческую, нравственную, показать приоритет морали во всех сферах жизни – исторической, государственной, общественной и др. Непримиримое противостояние дворянства и простого народа организует центральный конфликт «Истории Пугачевского бунта» – в «Капитанской дочке» он отходит на второй план. В романе проблематика фокусируется на конфликте государства и отдельного человека. Ведь одна из главных в творчестве Пушкина 30х гг. проблем – взаимоотношения человека и власти («Медный всадник»). И неизменный, глубоко продуманный вывод писателя и историка: интересы личности и государства изначально несовместимы.
Более того, в «Капитанской дочке» проблема противоречия между ценностями дворянского государства, с одной стороны, и гуманизма, с другой, фокусируется на конфликте внутри концепта дворянской чести.
Этот проблемный ракурс задан эпиграфом: «Береги честь смолоду» [5.6,258]. Обычно его рассматривают как цельный этический императив. Однако у Пушкина все оказывается гораздо сложнее.
«Честь, – как справедливо утверждает Л.А. Калинников, – рассматривается Пушкиным как моралистом не в качестве внутрисословных традиционных отношений между представителями дворянства только, но прежде всего как универсальное моральное отношение между сословиями и всеми членами общества <…> Именно об этом универсальном, общечеловеческом понимании чести и идет речь в романе “Капитанская дочка”» [8,119]. А следовательно, было бы некорректно считать, будто у Пушкина честь дворянина противопоставляется нравственности человека. Это две ипостаси внутри единого концепта дворянской чести. Каково соотношение двух его составляющих – честь личности и честь слуги государева? И возможен ли конфликт между ними? Понятие чести предстает в романе не как тема, но как проблема.
«Капитанская дочка» родилась из замысла повести о дворянине Шванвиче, перешедшем на сторону Пугачева [10,151159; 11,533]. Факт более чем странный, ведь «весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противуположны» [5.8,254]. Автора «Капитанской дочки», повидимому, заинтриговал вопрос: при каких условиях и обстоятельствах возможен переход дворянина на сторону мятежника, государственного преступника, «мужицкого царя»? И какова была бы этическая основа такого поступка?
В ходе работы над романом Шванвич преображается в Швабрина – злодея и предателя. Но понятно, что фигура подлеца не могла подвигнуть такого писателя, как Пушкин, на сотворение художественного произведения. Проблема возникает тогда, когда на последней стадии работы над романом произошло «разделение одного героя на двух—положительного Гринева и отрицательного Швабрина» [11,534]. Вопрос о чести Швабрина решен уже в начале романа. Сложности возникают с появления положительного и, на первый взгляд, «простого» героя.
Повествование «Капитанской дочки» вытраивается как серия испытаний чести дворянина Гринева, которые развиваются по восходящей, становясь все жестче, а их одоление все сложнее – как и положено быть в сказке.
В первых же своих встречах с миром Гринев ведет себя как человек честный и благодарный. Затем серия бытовых испытаний: дуэль за честь оклеветанной девушки; бескорыстная любовь и предложение руки сердца милой и чистой девушке, не наделенной ни особенной красотой, ни богатством, и, наконец, готовность, даже вопреки воле родителей, сдержать данное слово и жениться на бесприданнице.
Все это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что герою предстоит. Но человек проявляет себя, свою сущность и в мелочах. И кто верен в малом, будет честен и важном, а кто мог оклеветать невинную девушку, окажется государственным преступником, предателем – и своей чести дворянина, и самого Отечества. Казалось бы, вот ответ Пушкина на вопрос: может ли дворянин при определенных обстоятельствах перейти на сторону бунтовщика и самозванца? Может, только если он бесчестный дворянин.
Настоящие испытания чести начинаются для Гринева после взятия Белогорской крепости бунтовщиками. Интересно обратить внимание, что козни Швабрина здесь, как и в других случаях, оказываются Гриневу на пользу. Ведь после капитана Миронова и Ивана Игнатьевича, которые бесстрашно произнесли роковые слова: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец» [5.6,308], – отвечать предстояло Гриневу, и, если бы он, как верный своему долгу дворянин, повторил эти слова, о помиловании уже речи быть не могло бы. Однако своим наветом Швабрин своего соперника от необходимости отвечать избавил.
И тогда начинают действовать уже высшие силы – в лице Савельича, который бросается в ноги Пугачеву. Что происходит в этот момент? Пугачев узнает в своем классовом враге знакомого человека – того самого, которого он выел из пурги и который его за это отблагодарил. Так в подтексте сцены всплывает «волшебный предмет» – заячий тулупчик. И это понимает сам Гринев: «Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!» [5.6,312] Благодаря вмешательству мистикоиррациональных сил, произошло чудо: на какоето время рассеялась тьма социальной предопределенности и вражды – воссияло солнце человеческого взаимопонимания.
И вновь возникнет заячий тулупчик, когда Савельич – добросовестный охранитель барского добра, представляет Пугачеву реестр отнятого злодеями у «дитяти» имущества. И вновь какимто волшебным образом пробуждается в Пугачеве не ярость, а, напротив, совесть. Злодей почемуто решает не казнить безумного старика за неслыханную дерзость, а с лихвой компенсирует ущерб. И далее, оставаясь уже невидимым, заячий тулупчик, подобно «волшебному предмету» из сказок, продолжает из подтекста освещать все отношения Гринева и Пугачева, неизменно обращая их друг к другу человечностью, а значит, их божественным началом. Происходит «общение двух личностей в горизонте отчасти знаемой, отчасти предвосхищаемой Истины, общение ”перед лицом Бога”» [12].
Но еще раньше, сразу после счастливого избавления Гринева от смерти концепт дворянской чести впервые дает трещину: «Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах… Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем» [5.6,312]. Пока еще это не противоречие внутри концепта дворянской чести, а лишь традиционный конфликт между долгом и чувством. Однако позднее он приведет к расколу концепта дворянской чести.
В сцене разговора Гринева и Пугачева один на один в «резиденции» самозванца целостность дворянской чести по видимости сохранена: балансируя на лезвие ножа, герой под страхом смерти все же отказывается признать Пугачева царем и служить ему, а в то же время не опускается до лжи, честно признаваясь, что если пошлют, то будет воевать против него: «Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя – пойду, делать нечего» [5.6,316]. Свою честь дворянина – и человека и слуги государева, Гринев сберег.
Но, как ни парадоксально, тем заметнее в этой сцене трещина между двумя ипостасями дворянской чести. Эмоциональнопсихологическая установка разговора, как об этом убедительно пишет В.Н. Катасонов, – свобода и откровенность. А свобода высказывания и открытость суть главные признаки человеческого общения. Пугачев с Гриневым говорят друг с другом просто как люди, а не как «мужицкий царь» с дворянином. Они разговаривают как люди, вопреки своему социальному статусу – вот внутренний нерв этой сцены.
Кризис, раскол внутри концепта дворянской чести наступает в тот момент, когда Маша Миронова, оказавшись в плену, передает Гриневу записку с отчаянной мольбой о помощи. В непримиримое противоречие честь слуги государева вступает с личной честью дворянина. Ведь если бы Гринев не откликнулся на этот призыв о помощи – не просто беззащитной девушки, но его невесты, которая одна в стане разбойников, находясь в полной власти влюбленного в нее мужчины, под угрозой смерти и насилия защищает честь и свою, и его, своего жениха , – кем бы он тогда на всю жизнь остался и по понятиям человеческим, и в собственных глазах? Безусловно, подлецом. И Гринев нарушает присягу, совершает государственное преступление – едет в Белогорскую крепость и, чтобы спасти свою невесту, вполне сознательно обращается за помощью к главарю бунтовщиков.
С этого момента личная честь дворянина будет доминировать в романе над честью слуги государева. И здесь стоит обратить внимание на одну фразу в главе «Суд». В тот момент, когда мнение военных судьей уже начало склоняться в пользу Гринева , неожиданно в нем возникло чувство омерзения: «Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и всё прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение» [5.6,353]. Отвращение к чему? Да, конечно, героя остановило нежелание замешать в дело любимую девушку и запятнать ее честь. Однако последняя фраза явно указывает на какоето бессознательное чувство брезгливости – от того, что государство вторгается в личную, сокровенную его жизнь. Герой мог спасти и свою жизнь, и даже оправдаться как слуга государева, но навсегда осквернил бы честь дворяниначеловека.
Разрешается драматичный внутренний конфликт дворянской чести сказочным образом – встреча героини с государыней, которая решает Гринева освободить. В определенном смысле вердикт императрицы – решение по принципу deux ex machina.
И здесь у Пушкина не обошлось без сложностей, а решение императрицы несколько затемнено, как бы затянуто флером неопределенности. Ю.М. Лотман доказывал, что императрица решила судьбу героя не по справедливости, но по милости, тем самым реализовав любимую мысль Пушкина о превосходстве милости над законом. Однако государыня у Пушкина выразилась несколько в ином смысле: «Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха» [5.6,359]. Следовательно, не помилован, но оправдан.
По меркам человеческим, Гринев действительно ни в чем не виновен: на сторону Пугачева не перешел, никаких секретов не выдавал. Больше того, в главе «Мятежная слобода», под угрозой жестокой расправы, Гринев, вопреки известным самим бунтовщикам фактам, «по долгу присяги стал уверять» [5.6,333], что жители осажденного Оренбурга не только не мрут с голоду, а, напротив, избыточествуют продовольствием. И все же, с точки зрения государства, он преступник. Об этом убедительно пишет Ю.М. Лотман: «Это, бесспорно, преступление с точки зрения военного суда. Достаточно представить себе, что любой офицер любой армии во время войны совершил подобный поступок, который на языке военного суда именуется дезертирством и общением с неприятелем, чтобы всякие рассуждения о юридической невиновности Гринева отпали сами собой. Показательно, что даже 60 лет спустя такой сюжет невозможно было надеяться провести сквозь цензуру. Однако именно он отражает подлинный замысел Пушкина, и лишь он полностью объясняет дальнейшее развитие событий» [9,227].
Дело не в милости государевой, а в том, что она разобралась в деле почеловечески и с этой позиции вынесла свой вердикт, – так же, как раньше это сделал Пугачев. Не случайно, как это уже замечено исследователями, внешность государыни при первой встрече с Машей Мироновой списана с портрета императрицы кисти В.Л. Боровиковского – портрета, который очень нравился Пушкину, а у самой Екатерины вызвал неудовольствие. В обоих случаях причина была одна – домашность, не парадность вида. Но Пушкинуписателю было важно, что императрица, встретившись с Машей Мироновой впервые, сразу восприняла ее почеловечески, а не в категориях закона государства и его интересов.
Вполне в соответствии со сказочным каноном, в таком «домашнем виде» Маша Миронова государыню не узнает – как и Гринев не узнал в бродяге «мужицкого царя».
Изображение Пугачевского бунта – его кровавой, беспощадной, а порой и бессмысленной жестокости, этот пласт повествования общий в пушкинском диптихе и структурирующий жанр исторического романа в «Капитанской дочке». Но там, где на первый план выступают проблемы нравственные, нарратив исторический взрывают мотивы и элементы повествования сказочномистического.
Жанр сказки и оказывается тем «движком», который переключает повествование научное в художественное.
Так в «Капитанской дочке» совершается «чудо хождения по водам». Но это не только чудо общения людей на чисто человеческом уровне личного касания (В.Н. Катасонов), личного соприкосновения и взаимопонимания, вне классовых границ и разделений, – это чудо единения дворянства со своим народом. Оно возможно, как показал Пушкин, но только на уровне нравственном – в сфере человеческих отношений. И лишь при сказочном стечении обстоятельств, которое и организует Автор: на протяжении всего романного повествования он буквально бросает Гринева в объятия Пугачева, делая их сближение неотвратимым и неизбежным, чудесным образом пробуждая в критических ситуациях «чувства добрые» в душах своих героев. Разумеется, самим героям, живущим во «внутреннем мире» романа, все происходящее представляется вмешательством Промысла Божия, но читатель, находящийся на уровне внешнем, конечно же, видит здесь волю Автора.
Собственно, на изначальный вопрос «Капитанской дочки», который лежит в подтексте всего повествования: может ли дворянин перейти на сторону восставшего народа? – Пушкин отвечал парадоксальным образом. Реально на службу к бунтовщику может перейти только дворянин бесчестный – как предатель Швабрин, но такой дворянин перейдет на сторону народа лицемерно, а не душой и сердцем. А вот тот, кто служить бунтовщикам откажется – как Гринев, может даже полюбить самозванца и государственного преступника. «Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему» [5.6,343], – вот ключевая для понимания взаимоотношений Гринева и Пугачева фраза романа. И в дальнейшем, когда до него доходят вести о разгроме бунтовщиков, о исчезновении Пугачева, а затем появлении в другом месте, — Гринев испытывает чувства противоречивые: мысль о неизбежной страшной участи Пугачева неизменно отравляла радость об успехах правительственных войск.
Наконец, в заключительных строках романа, уже в словах Издателя, навсегда, поверх и вопреки всем официальным и сословным разделениям, протягивается нить человеческой приязни и благодарности между дворянином и «мужицким царем»: Гринев «присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу» [5.6,360].
Так история, в виде семейного предания Гриневых, облагодетельствованных двумя государями, прорастает в памяти будущих поколений – рождается миф.
Литература
1. Цветаева М. Пушкин и Пугачев // Цветаева М. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т.2. С.340368.
2. Варламов А. О повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» // православный журнал Фома // URL: https://azbyka.ru/fiction/opovestipushkinakapitanskayadochka/
3. Пропп В.Я. Русская сказка. М.: Лабиринт, 2000. С.194282.
4. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2001.
5. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. Т.6, Т.8. 1978.
6. КондратьеваМейксон Н. По какому календарю?.. (Время и пейзаж в «Капитанской дочке») // Вопросы литературы. 1987, №2. С.168176.
7. Альтшуллер М. Два Пугачева. Вымыслы романические и «История Пугачевского бунта» // Вопросы литературы. 2015. № 5. С.118–158.
8. Калинников Л.А. «Метафизика нравов» И. Канта в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина // Вопросы литературы. 2019. № 3. С.103139.
9. Лотман Ю. М. Идейная структура «Капитанской дочки» // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство, 1995. С.212227.
10. Оксман Ю. Пушкин в работе над «Историей Пугачева» // Пушкин А.С Капитанская дочка. М.: Наука, 1984. С.145199.
11. Томашевский Б.В. Примечания. «Капитанская дочка» // Полн. собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1977–1979. Т.6. 1978. С.533539.
12. Катасонов В.Н. Хождение по водам. Религиознонравственный смысл повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» // URL: http://katasonovvn.narod.ru/statji/razdel4/41_v.n.katasonov_khozhdenie_po_vodam.htm
Алла Злочевская, доктор филологических наук, старший научный сотрудник научноисследовательской лаборатории «Русская литература в современном мире», филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.






 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий