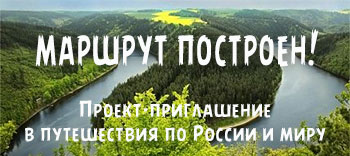Солодянкина О. Ю. Свои и чужие в пространстве домашнего воспитания и образования дворянства в имперской России
Сфера образования и воспитания — одна из самых важных, если речь идет о взаимодействии культур. В русле какой культурной традиции воспитывается ребенок, на каком языке учится, какие книги читает, какую религию исповедует? И один из базовых вопросов: кто его воспитывает и учит? Начиная с Петра I, детей российских дворян старались воспитывать в духе европейской образовательной традиции, и занимались этим, прежде всего иностранные гувернеры и гувернантки, к которым постепенно стали добавляться свои, российские, овладевшие иностранными языками и освоившие инокультурные формы поведения — жесты, манеры, умение держаться. Кто из них были свои, а кто — чужие?
В простейшей интерпретации понятия «свой» и «чужой» понимаются как родной, отечественный и, соответственно, иноземный, иностранный. Если эту элементарную матрицу смыслов приложить к субъектам системы домашнего образования, то, казалось бы, должно получиться очевидное противопоставление: «свои», русские учителя-гувернеры-гувернантки, и «чужие», иностранные учителя-гувернеры-гувернантки. Однако, история тем и интересна, что очевидное в ней необязательно является истинным.
Первый вопрос, который возникает при определении «чужого», — вопрос о подданстве: подданные иных государств — безусловно, чужие, а российские подданные — свои. Однако применительно к системе образования вопрос о подданстве имел сложности. Если до царствования Николая I престижно было быть иностранцем, то после смены образовательного курса и жесткой обязанности родителям воспитывать детей в России, чтобы они не набрались чужих идей и настроений, особенно во время революций, потрясавших Европу в 1830— 1831 и 1848—1849 годах, чужеземцев постарались не пускать в образовательную сферу. Им запретили открывать столь модные ранее пансионы для воспитания детей. Различные социальные гарантии (например, пенсия) предназначались лишь российским подданным, нормативно-правовые документы сдерживали приток иностранцев в образовательную сферу (после 1848 года на некоторое время приезд их в Россию вообще был запрещен). Выход быстро нашли: иностранные гувернеры и гувернантки стали принимать российское подданство на период службы, чтобы получать полагающиеся социальные льготы, а затем, если они планировали вернуться на родину, от российского подданства отказывались. Так что юридический статус «своего» получался временным. При этом, проведя многие годы в России, большинство иностранных гувернеров и гувернанток так и не осваивали русский язык, часто не владея даже азами его, о чем говорят казусы, описываемые в мемуарах. Однако язык мог выступать маркером и несколько иной «чужести». Порой домашними учителями, гувернерами и гувернантками трудились люди, родившиеся и выросшие в России. Иностранцами, возможно, были их родители, или даже деды и прадеды. С точки зрения закона они являлись россиянами, но для потенциальных работодателей позиционировали себя как иностранцы (немцы/англичане/французы/швейцарцы), поскольку дворяне желали обеспечить своим детям иностранных учителей. Вот эти «иностранцы» во втором или даже третьем поколении часто владели только разговорным языком, а не письменным, или каким-то диалектом языка, или устаревшим вариантом языка (не секрет, что язык, как живой организм, развивается в собственной стране очень быстро, а в чуждой языковой среде консервируется, сохраняет анахронизмы как в грамматике, так и в произношении, не говоря уже о словоупотреблении). И понять уровень владения иностранным языком и качество языка (архаичный или современный) в России середины XVIII века мог далеко не каждый дворянин, да и в XIX столетии в глухой провинции случались всякие казусы.
Вот такие «иностранцы», когда выяснялось, сколь слабо они владели собственным языком, становились «чужими» для собственных соотечественников, и в путевых заметках о встречах с ними в России те оставляли самые гневные комментарии.
Кроме языка, маркером «чужого» была конфессиональная принадлежность. Русские воспитанники в большинстве своем исповедовали православие, а иностранные воспитатели принадлежали к иным христианским конфессиям. Здесь мог возникнуть момент определенной религиозной пропаганды. Особенно отличались католики, прежде всего — иезуиты, постепенно внедрявшие свои религиозные идеи в сознание как детей, так и их родителей. Наибольшей толерантностью отличались протестанты, прежде всего — англичане и швейцарцы. Ситуация разноверия детей и воспитателей встречалась даже в императорской семье. Сардинский посланник в Петербурге Жозеф де Местр писал: «Религиозное безразличие проявляется здесь в самых причудливых видах, к примеру, это единственная страна во вселенной, где не интересуются верой у воспитателей юношества. Вполне обычное дело видеть в одном доме бонну-англичанку и католического учителя». Но даже при такой терпимости возникала ситуация языка веры. Иностранные наставники использовали для обучения ребенка языку любые возможности, в том числе и тексты молитв. Так, юный граф Сергей Шереметев воспитывался англичанкой Шарлоттой Рутланд и молился под ее присмотром. Когда в Москве его привезли к митрополиту Филарету, тот спросил, как мальчик молится. «День по-русски, день по- английски», — ответил малыш, и изумленный священнослужитель потребовал у отца ребенка объяснений: он не ожидал, что православный мальчик может молиться по-английски. Для митрополита язык молитвы определял содержание, а для Сергея и его гувернантки язык молитвы был вторичен, он не затемнял сути веры.
Чтобы избежать пропаганды чужих религиозных идей, с наставников других христианских исповеданий после 1839 года стали требовать специальную подписку на родном языке гувернантки/гувернера, где они брали на себя обязательство не внушать воспитанникам предписаний, противоположных учениям православной церкви.
«Инаковость» выражалась в непривычном звучании имени, подчас столь странном для русского уха, что в семье, куда приезжал такой иностранец, его называли по национальной принадлежности — наш Француз, наша Англичанка и тому подобное. «Наш» обозначал принадлежность к семье, к месту работы, но это не означало, что «наш» был «своим». Название национальности писалось с большой буквы, то есть становилось неким именем собственным, заменяя имя личное. Периодически менявшиеся гувернантки и гувернеры не запоминались личными чертами и именами, а так и фигурировали в качестве носителей своего профессионального/иностранного статуса. Только если наставник трудился в семье долго, вовлекался в сложную систему связей и отношений семьи, его «чужое» имя старались сделать своим, привычным, и тогда появлялись наименования, несущие все следы переделки имени в русском духе: «Амалия Ивановна», «Карл Богданыч» (появление отчества), «Марья Крестьяновна» (отчество от чужого имени Христиан звучало в таком варианте понятно и близко), «Луизочка» (русский уменьшительно-ласкательный суффикс делал чужое имя своим).
Маркером «чужого» выступала внешность — телосложение, собственно черты лица, линия поведения, манера одеваться. В целом, существовал определенный стандарт внешнего вида гувернера (а ими были, прежде всего, французы), ведь все могли понять фразу А. Я. Булгакова о новом знакомце: это человек, имеющий вид французского учителя. По виду иностранных гувернеров, которые длительное время проводили в семьях российских дворян, у русских, особенно тех, кто не выезжал за границу, формировались представления о том, как выглядят иностранцы. Писатель Петр Боборыкин характеризовал внешность известной английской писательницы Джордж Элиот следующим образом: «она была уже немолодая женщина, и смотрела очень похоже на тот тип англичанки, какой попадался у нас в России, всего чаще среди гувернанток: такое же худощавое, некрасивое лицо, с выдающимся ртом, такие же локоны на ушах и такая же манера одеваться».
Невербальные средства коммуникации (жесты, мимика, позы) также различались у «своих» и «чужих». Поскольку гувернеры и гувернантки постоянно находились рядом с воспитанниками, то дети невольно им подражали или просто отмечали инокультурные невербальные методы общения.
Определенным маркером «своего» и «чужого» выступали взгляды человека. Если они были близки (взгляды воспитателя — взглядам родителей/опекунов ребенка) — даже иностранец казался «своим», несмотря на языковой барьер. Но разность взглядов (прежде всего, политических) усугубляла ощущение «инаковости» до враждебности. С подозрением относился к политическим взглядам швейцарца Шербулье, гувернера его внуков Столыпиных, адмирал Николай Мордвинов. Хотя иноземный наставник отличался большими познаниями, отлично знал греческий и латынь, Мордвинов не одобрял этого выбора, находил, что гувернер имел слишком либеральные принципы, чтобы доверять ему воспитание детей, и обрадовался последовавшему через два года увольнению политически неблагонадежного, как ему казалось, наставника.
Иностранцы отличались по бытовым привычкам. Так, в семье провинциального помещика Михаила Семенова, как вспоминала его племянница Наталья Грот, восьмилетнюю дочь Марию воспитывала «англичанка Mistress Johnson, прямо с корабля, привезшего ее из Лондона. Это было оригинальнейшее существо, какое я встречала, выше всего привязанное к своим привычкам и проникнутое единственной заботой делать все по часам. Она чуть не уехала в тот же день обратно, когда по прибытии на место увидела, что комната ее не запирается, что дверной ключ испорчен. Напрасно успокаивали ее, что пошлют за слесарем в город, но нельзя его получить ранее следующего дня, так как город за 40 верст, а местный кузнец, которого уже призывали, не умел поправить замка. Ее отчаяние было невыразимо, и она все твердила, что за ночь ее непременно обокрадут. С удивлением смотрела я, как она за столом и даже при гостях обставляла себя целой батареей тарелок и накладывала всякого кушанья вдвойне, с тем, что одну порцию употребляла тотчас, а другую относила в свою комнату "for my supper"». «Не только зимою, но и летом приказывала она каждый вечер затопить свою печку, чтоб ... поджаривать в ней сухарики, намазанные маслом, которые она называла "my toasts".
Это наполняло ее комнату чадом, но вовсе ее не беспокоило». С позиций теории межкультурной коммуникации поведение миссис Джонсон выглядит совершенно естественным: она переживала ситуацию культурного шока. Прямо с корабля, без периода адаптации, она оказалась в российской глуши и столкнулась с чуждыми ей формами поведения. Упомянем типичные симптомы культурного шока: чрезмерно частое мытье рук, чрезмерная забота о чистоте питьевой воды, пищи, посуды, постели; боязнь физического контакта с представителями новой культуры, чувство беспомощности, стремление к контактам с представителями собственной культуры, уже долго проживающими здесь, страх быть обманутым или оскорбленным, общее снижение настроения. Миссис Джонсон явно демонстрировала по крайней мере часть этих признаков, но для принимающей ее стороны она казалась еще более «чужой», поскольку была странной, непонятной, и, уточним, не загадочно-непонятной, а неприятно-непонятной.
О каких-то признаках «чужого» мы знаем по текстам иностранцев, живших в России и мучившихся от отсутствия тех реалий, что казались им обязательными. К таковым относилось личное пространство, обязательное прежде всего для англичанина. Об остром ощущении своего «выпадения» из ритма жизни российской семьи писала британская гувернантка в семье Посниковых Клер Клермонт. Ее раздражала система организации российского дома (и загородного, и московского, с удаленной кухней, отсутствием стабильных спальных мест, когда хозяева могли улечься спать то в кабинете, то в гостиной, то еще где-то; с путающимися под ногами бесчисленными слугами, раскладывающими свои матрасы-подушки на полу вблизи хозяйских кроватей). Еще более чужим, раздражающим, вызывающим недоумение у воспитанной в уважении к обязательному «privacy» англичанки был стиль поведения в доме, степень «фонового» шума. Как отмечала К. Клермонт, русские готовы ссориться бесконечно, ведь для них это так же нормально, как есть хлеб, но британка, приученная к тихому образу жизни, делалась больной от этих постоянных свар. Молчать в ответ на упреки не получалось, жаловалась в своих письмах Клермонт, потому что это молчание, которое в других странах было бы признаком образованности и обеспечивало вам уважение, здесь воспринимается как раболепное молчание, и на вас смотрят как на раба, не осмеливающегося возражать. «Знаком вашего достоинства здесь является то, что вы смеете обсуждать и бранить хозяев». То есть для русских признаком «чужого» служило молчание, ровный тембр голоса, стремление к уединению. Сдержанную англичанку, привыкшую к английской холодности и умению «держать себя в руках», удивляла также излишняя эмоциональность, несдержанность русских, особенно мужские слезы: «русские как-то потрясающе легко плачут — а в Англии мужчина вряд ли пустил бы слезу, рассказывая юристу о своих делах». Если умение держать себя «в руках» выступало для русских маркером «чужого», то избыточная эмоциональность была признаком «своего».
Отдельный аспект проблемы — почему «свои» могли стать «чужими». В составе Российской империи были регионы, где большая часть населения не принадлежала к великороссам, основным языком общения не был русский, и по конфессиональной принадлежности жители по большей части не были православными. Речь идет о территории Польши, Великом княжестве Финляндском и Остзейских губерниях. Выходцы из этих мест, трудившиеся в системе домашнего образования и воспитания, с точки зрения правовой были вроде бы «своими» (имели российское подданство), но при этом по многим аспектам принадлежали к «чужим». Так, для лиц, занятых в системе домашнего образования в Польше, в соответствии с законом применяли другие наименования (в Польше — домашние высшие и низшие наставники, на остальной территории России — домашние надзирательницы, домашние учителя и учительницы, наставники), на них распространялись собственные правила и преимущества, а не общероссийские положения. То есть они являлись «своими» только на территории Польши, а в остальных частях Империи они даже по закону принадлежали к «чужим».
Особая ситуация сложилась с родным языком, болезненно воспринимаемая не только в Польше, но и в Остзейских губерниях. В последних от потенциальных кандидатов на звание домашних учителей требовалось знание русского языка как природного, что было затруднительно: у них родным языком был немецкий. То есть уроженцы Остзейских губерний были «чужими» по языку и конфессиональной принадлежности, но «своими» с точки зрения подчинения всем общероссийским нормам.
Что касается учителей из Финляндии, то они, как и поляки из Царства Польского, имели особый статус. Если уроженец Финляндии выдерживал испытание в грамматическом знании русского языка, то ему предоставлялись все права и преимущества звания домашнего учителя, как и природным русским. Если же знания русского языка были недостаточны, то претендент — уроженец Великого княжества Финляндского — получал возможность исправлять должность педагога (опция, которая применялась к иностранцам), и никакими преимуществами, какие давала служба, пользоваться не мог. Таким образом, уроженец Великого княжества Финляндского, «чужой» по языку и конфессиональной принадлежности, был во всех отношениях «своим», если мог сдать экзамен на грамматическое знание русского языка; недостаточное знание языка и невозможность сдать соответствующий экзамен превращала его в абсолютного «чужака» даже в правовом отношении.
Подведем итог: для воспитания человека, превращения его в полноценного члена общества важное значение имеют оппозиции «свой-чужой», «свой-другой», «чужой-другой». Свое познается только на фоне чужого и другого, выступающих как один из источников развития личности и культуры в целом.
Иностранные учителя, гувернеры и гувернантки воспринимались первоначально как чужие (нездешние, странные, незнакомые, необычные), но близкие контакты с ними, готовность воспитанников и прочих домочадцев к восприятию иного переводили их в категорию других, а длительно идущая европеизация и включенность отдельных гувернеров/гувернанток в жизнь нескольких поколений той или иной семьи приводили к тому, что они становились «своими». Положительное отношение к наставникам создавало более благоприятную атмосферу для освоения детьми чужой культуры, в то время как негативное отношение к воспитателям затрудняло процесс. Но сами наставники оставались при этом «чужими» в разной степени «чужести».
Солодянкина Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и философии Череповецкого государственного университета, главный редактор журнала «Historia Provinciae — журнал региональной истории».







 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий