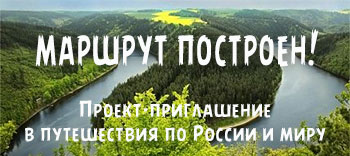Марков А. В. В языке смелости и милости
Современники меньше всего связывали с Пушкиным кодификацию языковой нормы. Напротив, сама уступка ему всех преимуществ означала признание, что Пушкин завоевал центральное положение в русской литературе постоянными отступлениями от нормы, неспособностью уложиться в готовую норму речевых употреблений. Не только Жуковский признал Пушкина «победившим учеником», но и многие современники просто робко отступали перед способностью Пушкина перевоплощаться, становиться другим, разрабатывать те ресурсы стиля, о существовании которых современники не догадывались. Это никак не приближение к нормативному языку, который будто бы создавал Пушкин, но, напротив, - отступление, умение сохранить дистанцию, держаться на достаточном расстоянии от явления, чтобы отвести ему все преимущества. Ницше называл такое отношение «пафосом дистанции», противопоставляя его простодушному следованию готовым словарям и грамматикам, когда кажется, что ты овладел официальной нормой и можешь беззастенчиво работать, как классики.
Историк литературы не может не заметить, что основная линия развития русской поэзии идет в обход Пушкина: это линия балладной повествовательной поэзии, от Жуковского через Лермонтова к Некрасову и дальше, до наших дней. Внутри этой линии мало что меняется, обновляются декорации, а не сама сцена: Жуковский будет писать об условном злом епископе, а Некрасов - о злом помещике,но сюжет останется практически тем же. Баллада как жанр и как литературный обычай может изображать самое страшное и невыносимое, но при этом вся она строится на допущении, что человек в своей основе добр и рано или поздно добро может победить в каждом человеке. Не случайно Жуковский так не любил «Гамлета», где герой сталкивается с предельным опытом, не оставляющим места для такого благополучного бытового развития событий. Пушкин с его французским остроумием, каламбурами, игрой стилистическими регистрами кажется иностранцем в сравнении с балладной поэзией - прежде всего потому, что он скептически относится к человеческой природе. Смерть может застать человека нераскаявшимся, более того, герой, как Пугачев в «Капитанской дочке», может организовать свою жизнь до самой предполагаемой и планируемой смерти так, чтобы бытовое добро в нем не победило бытовое зло. В этом смысле Пушкин действительно чувствовал родство с Макиавелли, Монтескье, Вольтером и другими скептиками, не думавшими ни в коем случае, что в мире все может измениться к лучшему.
Итак, Пушкин, с его вполне классицистским жанровым мышлением, в котором есть место для элегий и эпиграмм, трагедий и рассуждений, был чужд балладе. Если она у него появляется - например, «Черная шаль», - то как пародия, или, самое большее, балладные мотивы сразу переходят в философское рассуждение о жизни, смерти и памяти. Такое остроумие, умение быстро сопоставить непохожее, найти рациональную формулу, помыслить предельные понятия, но без эмоций, с должной скептической отстраненностью, делают Пушкина исключением в русской литературе с ее надрывом и утопиями.
Загадкой, скорее, будет то, насколько часто Пушкина переставали правильно понимать. Например, все мы со школы знаем выражение Белинского о «Евгении Онегине» - «энциклопедия русской жизни», - и понимаем энциклопедию как свод или словарь. На самом же деле имеется в виду не только это, но и «Энциклопедия наук и ремесел» Дидро и д-Аламбера: всеохватный текст, который служит инструментом исправления окружающего мира, прямой инструкцией прогресса. Или, хотя еще Тынянов показал, что Пушкину чужд «элегический пейзаж» и его эмоциональные штампы, он показал также, что, в отличие от Тютчева, природа у Пушкина ничего не говорит, а просто является частью организации пространства действия; что Пушкин сражался против пейзажности, не позволяющей развивать жанровую речь, сводящей жанровые возможности к готовым эмоциональным ожиданиям, - школьники по-прежнему пишут сочинения «Образ природы у Пушкина», хотя правильной темой сочинения было бы что-то вроде «Борьба Пушкина против всевозможных образов природы», а «Осень» и другие стихи рассматривались бы как титаническое сражение гениального одиночки против целых литературных традиций.
2.
Некоторые причины успеха Пушкина прекрасно показал А. И. Рейтблат в статье «Как Пушкин вышел в гении», а некоторые мы со всей отчетливостью видим сейчас, в эпоху сериалов, графических романов и сетевых мемов. Во-первых, Пушкин начал литературную карьеру «Русланом и Людмилой» - эту поэму мы сейчас назвали бы сенсационным «кроссовером», где герои былин встречаются с героями в духе Ариосто, а также «мэш-апом», соединяющим самые рискованные жанры — от рассказов о любовных историях на грани непристойных намеков до размышлений о том, когда герои разных возрастов и разных миров помирятся. Скандальность сопровождала поэму, начиная от непривычной грубой фонетики («А как наеду, не спущу») и кончая соединением волшебных сцен с как будто самыми грубыми бытовыми обстоятельствами.
Дальше Пушкин наладил регулярное профессиональное производство поэм, которые мы назвали бы «стримами»: представьте репортаж о бегстве разбойников из-под стражи или подробнейшее расследование об убийстве в цыганском поселке, собирающий сейчас десятки миллионов просмотров. Но чтобы действительно стать славным, нужно было соизмерять и лирику с историей: «Подражания Корану», например,- явный ответ Наполеону, который хотел, чтобы не только христианская Европа признала его благочестивейшим государем, но чтобы и весь исламский мир перед ним склонился. Для этого нужно было исследовать - и это делали спутники Наполеона, востоковеды, - как в исламе сочетаются страсть и разум, строгость нравов и восторженность, переизобрести ислам так, чтобы мусульмане признали в Наполеоне истинного вождя всего света и пошли за ним. Нам всем благодаря труду Э.-В. Саида «Ориентализм» (1978) понятны контуры этого «восточного проекта». Пушкин тоже создает свой ислам, с теми же свойствами, где верность клятве и милость, глубочайшие непоколебимые убеждения и благоговение перед невиданным соединяются. Раскольников это понимал, когда сравнивал себя с Наполеоном и цитировал из «Подражаний Корану» про «дрожащую тварь».
Дело, конечно, не в том, чтобы «перевести» всего Пушкина на язык современных понятий, например, изобразив роман в стихах «Евгений Онегин» как лайфстайл-глянец вкупе со скандальным расследованием светских нравов, который всегда становится предметом престижного потребления,— и немало читателей были готовы платить полновесным серебром за каждую главу романа. Все эти параллели остроумны до поры до времени, но их остроумие рано или поздно исчерпывается. Гораздо важнее и существеннее обсуждать другое: почему у Пушкина не получилось создание всех форматов, несмотря на гений перевоплощения и совершенство во всех литературных жанрах?
Например, роман «Дубровский» - единственное произведение Пушкина, полностью следующее модели Вальтера Скотта, в которой герой - одновременно «старый» и «новый» рыцарь, принадлежит одновременно старому миру сословных предрассудков и новому миру чести как вызова и провокации - и интерес читателя состоит в том, чтобы постоянно сверять, как герой действует и в том, и в другом мире, не становясь ни верным сыном феодализма, ни пиратом и солдатом удачи, но просто осуществляя и тот, и другой сценарии как необходимые. Дубровский - идеальный русский персонаж Вальтера Скотта, человек дворянских устоев и человек разбойничьей удачи одновременно. Но как раз в момент первого испытания, когда ему из разбойника опять надо стать дворянином и восстановить все координаты дворянского поведения, роман обрывается. Почему Пушкин так скоро бросил замысел? - не потому ли, что не увидел в стране того читателя, которого видел Вальтер Скотт: современного человека, которого сама принадлежность к новым политическим порядкам держит на расстоянии от любых старых обычаев? Читателем законченного «Дубровского» мог бы стать любой разорившийся дворянин, и тогда история Раскольникова даже не потребовала бы Достоевского, подражатели Наполеону и Дубровскому нашлись бы раньше.
3.
Но все же, если говорить о норме языка, то, конечно, Пушкин утверждает схему «подлежащее - сказуемое - второстепенные члены предложения» уже не как одно из стилистических решений, но как нейтральный письменный стандарт. Этот факт нельзя недооценивать: устное бытование такого порядка слов неудобно; услышав сразу подлежащее и сказуемое, школьник готов остальное пропустить «мимо ушей». Но Пушкин сознательно выбирает такую ясность речи, как противостоящую лишней эмоциональности. Если мы заранее знаем, кто что делает, мы не будем увлекаться эмоциями:
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Нева восстает против стройной ограды, и такое единоборство, наподобие борьбы больного с горячкой, предвосхищает безумие Евгения. Но никакого эмоционального вовлечения читателя здесь нет. Напротив, мы, признав всю мощь классической трагедии, должны проследовать ее структуре от начала и до конца. Мы легко найдем все элементы трагедии: и «гибрис» (вызов небу) героя, и очищение страха и сострадания, и трагическое узнавание, точнее, неузнавание своего дома, и «бог из машины» в виде спасительного льва, и неведение героя о том, что ему предстоит пережить.
Это полный энциклопедический свод всех свойств трагедии. Но они разложены как пазл, как ряд картинок, а собираем мы пазл благодаря правильности высказываний: мы знаем, что настало время действовать стихии, а потом будет время действовать и духу порядка, возвращающему городу его былую стройность. Говорить, на чьей стороне Пушкин в «Медном Всаднике», бессмысленно - нельзя миновать наводнение, но нельзя и обойтись без Петербурга, и невозможна литература без трагических сюжетов, где за высокомерием, желанием хотя бы умом сравняться с высшими силами, следует возмездие и преследование духом мщения. Дело не в том, что Евгений становится примером трагического страдания, но в том, что это с самого начала условный, усредненный герой, который сооружается Пушкиным как кукла или как экспериментальный образец для испытания в соответствии с французскими просветительскими экспериментами. И здесь мы подходим к самому главному в вопросе, создал ли Пушкин именно тот язык, в котором мы живем и действуем.
Пастернак однажды заметил: «Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к "Онегину" и написал бы пять "Полтав" вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне». В этих словах противопоставляется два значения слова «понимание» - понимание как присвоение, как эмоциональное сочувствие, не оставляющее предмету свободы, и понимание как умение признать свободу влюбляться и разочаровываться. Второе понимание и есть настоящая философия; и мы живем в философии Пушкина, где можно без ума влюбиться, где можно легко пошутить, где разрешено противоречить себе, но запрещено настаивать на своих капризах, потому что это не будет так остроумно.
В 2022 году Рэйчел Суисса сняла фильм «Опасные связи», перенеся действие великого эпистолярного романа Шодерло де Лакло в старший класс средней школы. В каком-то смысле нашим школьникам даже не нужны такие переносы: читая «Евгения Онегина» в школе, они вполне могут прожить все эти ситуации рационально рассчитанной влюбленности, насмешки над чувствами, манипуля- тивной риторики и противостояния ей. Так что в этом смысле мы живем и в языке, и в сценариях Пушкина - но, вероятно, нужна еще работа пушкинистов и авторов учебника, чтобы эта жизнь стала еще лучше.
4.
Горестная шутка Пастернака имеет еще один смысл. Пушкин меньше всего отвечает за пушкинистику, не он ее создавал. Конечно, пушкинистика дала нам очень многое: мы научились разбирать происхождение текстов, понимать жанровое мышление, какому жанру какая композиция должна соответствовать, наблюдать за тем, как биографические обстоятельства в жизни Пушкина связаны, например, с его переводческой деятельностью. Я убежден, что без пушкинистики Венгерова и многих других, научивших смотреть, как встреча Пушкина с Жуковским или Вяземским утром такого-то дня повлияла на решение перевести или переработать такую-то балладу Саути (пример условен), не было бы великой советской школы перевода. Она так же внимательна к ритму и размеру подлинника, как пушкинистика - к ритму жизни самого Пушкина: в складках этого ритма она читает порождение прежде не бывших в русской культуре смыслов и сразу объясняет их читателю. Как пушкинистика, советская школа перевода требует хорошо знать творчество переводимого автора, вплоть до тайных сторон его характера или интриг вокруг его имени, и, как пушкинистика, школа перевода выводит из этого общего облика автора скорость движения от художественных образов к новым смыслам. Грубо говоря, настоящий пушкинист всегда знает, с какой скоростью Пушкин шел к Вяземскому или Плетневу и что у него было на душе, когда он поднимался по лестнице; и настоящий переводчик нашей школы всегда знает, о чем думал Гете или Байрон, когда предпочел эту рифму, когда соединил противоречивые образы,- и как эту противоречивость объяснить как закономерное литературное изобретение.
Но, конечно, вряд ли биографический метод может объяснить, например, что сделал Пушкин с Вальтером Скоттом в «Дубровском», или как именно он спорит с «Дзядами» Мицкевича в «Медном Всаднике» - часто эти объяснения оборачиваются несколько нелепыми политическими схематизациями. Поэтому здесь как раз настала пора сказать, что Пушкин создал не пушкинистику, а нашу гуманитарную теорию.
Для того, чтобы она возникла, конечно, должно было произойти еще несколько сдвигов: актерский театр должен был уступить место режиссерскому, в искусстве должны были возникнуть авангардные смещения; должны были явиться Мейерхольд и Малевич, чтобы появился Пушкин Тынянова и Пушкин Бахтина и Выготского. Только тогда становится понятно, что для Пушкина памятник Петра - не картинка, служащая тому, чтобы упрекнуть Мицкевича, а Пугачев - не картинка, показывающая, что призраки и предчувствия могут становиться реальностью,- хотя пушкинская наука о призраках давно заслуживает стать отдельной наукой. Это все действующие лица, со своим поведением, речью и жанрами деятельности, прямо как в режиссерском театре могут действовать даже стулья. И в эпоху авангарда Пушкин и породил наших ведущих гуманитариев.
Пушкин породил Бахтина, который показал, что такое «чужое слово» и «жанровое слово», что такое «речевые жанры», связанные напрямую с жизненной позицией и невольной стратегией на будущее. Именно Пушкин стал использовать различные жанровые регистры внутри одного произведения, когда, например, Пимен и Григорий Отрепьев, будучи людьми единой монастырской культуры, говорят по-разному и готовят себе разные судьбы: Пимен говорит о значимости «видений легких», имея в виду легкость святости, тогда как Отрепьев прочитывает в этом только легкомыслие и превращает свой сон в руководство к действию. Иначе говоря, Пимен действует внутри жанра богословского рассуждения о святости, а Отрепьев - внутри жанра авантюрного романа, хотя они оба внутри шекспировского типа трагедии. После Пушкина, и скажу это убежденно, никто не мог так играть смысловыми регистрами, прежде всего - регистром церковнославянских значений, но и никто, как Бахтин, не мог понять работу этих разных регистров.
Пушкин породил и Выготского, который стал говорить о столкновении двух противоположных планов как об основе восприятия искусства, в отличие от восприятия красоты природы. Например, в «Евгении Онегине» сюжет и судьбы героев мрачны, но стих и его атмосфера праздничны. Это и есть столкновение планов: мы можем сказать, что отдельные судьбы героев всегда замкнуты в их словах - но стихотворная импровизация размыкает эту замкнутость; мы можем посмотреть на героев с другой стороны и тем самым привлечь их к по-настоящему радостному сюжету. Выготский свернул в этой сверхтяжелой материи все основные темы психологии XX века - от конфликта между бессознательным и сознанием до терапии искусством и «закрытия гештальта». И кто скажет, что без Пушкина такое рассуждение состоялось бы?
Итак, мы живем внутри языка Пушкина не столько, когда следуем словарной норме, которая, тем более, всегда меняется, но когда помогаем соседу пережить трагические времена, или прощаем всех, как царь Салтан, да так, что это прощение оказывается не попустительством, а терапией. Просто виновный не столько поддается у Пушкина гневу или иной страсти, сколько становится жертвой узости своих понятий, тогда как милость размыкает эти понятия. Вот и тот современный язык, который и есть язык Пушкина - язык милости.
5.
Есть еще одна вещь, которая не смогла бы состояться без Пушкина. Это то, что можно назвать «многомирием» вместо романтического «двоемирия».
Романтик живет только в двух мирах, мире скудной реальности и мире чудесной мечты, и мучается от разрыва этих миров. Убеждения самого поэта могут идти гораздо дальше двоемирия, но сами стилистические регистры поддерживают число два. Например, мы не назовем Маяковского и тем более Бродского «романтиком», и в мысли Бродского несравненно больше от Пушкина, чем от Лермонтова; но использование двух основных регистров, а именно среднего языка литературно-поэтической нормы и низового языка сатиры, брани или горестного скепсиса, возвращает и Маяковского, и Бродского к двоемирию.
Тогда как образцовый поэт многомирия - это Блок. У него есть не только мир Прекрасной Дамы и мир низкого быта: в одной «Незнакомке» присутствуют многие миры: мир рыцаря прекрасной дамы, мир пьяницы, мир сомнительной незнакомки, мир дачного безделья и мир экстатической красоты. Как эти пять миров поставить в ряд и провести линии от одного к другому - целая огромная задача. Тынянов изобрел термин «лирический герой» в связи с Блоком, отличая такого субъекта речи и от автора, и от роли в лирике - ведь читатель может догадываться о чем-то, о чем лирический повествователь не догадывается, например, о его дальнейшей судьбе, но это не значит, что читатель умнее Блока и что Блок не понимал, что такое судьба. Просто судьба уже действует вовсю в одном мире, а в другом мире пока царит внимательное слово, и мы забываем о судьбе. Поэтому я бы, скорее, говорил о лирических мирах героизма - героизма вполне пушкинского почина, смело смотрящего в лицо смерти.
Как стройность Петербурга не противоречит трагедии Евгения, так не противоречат друг другу пять или шесть миров даже в небольшом стихотворении Блока. Поэтому мы можем сказать еще одну вещь: мы живем в той же мере в языке Пушкина, в какой и в воображении Блока. В этом смысле наши современные верлибристы, сопоставляющие чистый документ и возможные исходы судьбы, гораздо ближе к Пушкину, чем внешне классицизиру- ющие консервативные поэты.
Поэзия после Блока поэтому и пытается представить Пушкина не просто как гения, но как сон русской культуры. Приведу только один пример: стихотворение Елены Шварц, относящееся, видимо, к началу 1980-х годов и предъявляющее нам Пушкина как рациональную сторону любого сна, как сверхсознательное, а не бессознательное сновидений:
В печи сияющей, в огромном чреве
Нерожденный Пушкин спал -
Весь в отблесках огня
и отсветах светил,
Два месяца всего назад зачатый —
Уже он с бородой
Или как после тифа был.
В черном, стриженый, сквозящий,
И как пирог он восходил,
И широко раскрытыми глазами
Смотрел в огонь, лежал, кальян курил.
Шумели ангелы,
как летний дождь, над ним,
Вливались в уши, вылетали в ноздри,
Ленивый демон прятался в углу,
Их отгонял, как мух, как туча звезды.
Он зорок был, бессонен - потому,
Чтоб с цепкостью ко тьме
младенец шел во тьму...
Итак, Пушкин, еще не родившись, видит сон о себе; то есть работа по порождению жанровых миров как бы начинается с момента рождения или даже до него. Елена Шварц здесь спорит с психоаналитическим учением о дородовых или родовых травмах: Пушкин мог перенести любое испытание в соседний мир, в мир духов, летнего дождя. Вместо травмы рождения здесь на нас смотрит восходящий пирог на день рождения, и вместо старения и обреченности - умение показать себя молодцом даже в болезни. Встреча с ангелами действительно страшна, и, как показывает опыт библейского Иакова, травматична; но здесь ангелы легко шумят дождем и вьются шекспировскими эльфами. Пушкин не соблюдает законы постоянства: он не ветер, отгоняющий тучу, но туча, отгоняющая звезды, потому что даже свое мрачное настроение и чувство обреченности он может рационализировать и превратить в указания на ограниченность нашего знания. Поэтому, конечно, Пушкин не мог писать пять «Полтав»: это было бы для него настоящим ужасом. Так, он показывал в поэме, что даже Петр I не знал исхода битвы, - знала его разве что молния в глазах Петра, и написать вторую «Полтаву» было бы надругательством и над здравым смыслом, и над небесным замыслом. Уж лучше идти во тьму весело, сохраняя второй план цепкого ритма и точной рифмы. Как только мы удерживаем эту веселость и говорим точно, мы говорим на языке Пушкина - не раньше и не позже.
Марков Александр Викторович, литературовед, философ, искусствовед, культуролог, доктор филологических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета.






 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий