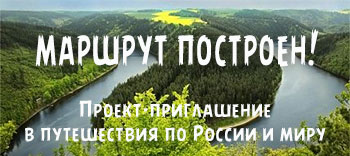Гордиенко Т.В. Россия в творчестве поэтов второй волны русской эмиграции
В предлагаемой статье рассматривается поэтическое наследие представителей второй (послевоенной) эмиграции. Долгие годы их творчество на родине находилось под запретом, но, как всякое истинное творчество, оно несет в себе непреходящие ценности и является неотъемлемой частью русской литературы XX века. Разговор о поэтах второй волны эмиграции будет полезен и интересен на уроках литературы, уроках внеклассного чтения, как материал для проектно-исследовательской работы учащихся старших классов.
Ключевые слова: вторая волна русской эмиграции, лагеря для перемещенных лиц, чужбина и одиночество, поэты старшего поколения, ностальгические мотивы, тема России, влияние англоязычной культуры.
Возвращение духовных ценностей русской эмиграции на родину, начавшееся в девяностые годы XX в. в возрождающейся России, изменило укоренившийся взгляд на литературу второй волны. Сложившееся мнение о том, что эта среда не выдвинула крупных фигур, было поколеблено благодаря открывшимся архивам и появившейся возможности более полно знакомиться с творчеством поэтов и прозаиков, драматургов и критиков, эссеистов и публицистов, о которых прежде или ничего не было известно, или было известно до обидного мало. Причина этой неизвестности объясняется особенностями второй эмиграции. Ее составили остарбайтеры, угнанные насильно в Германию или оказавшиеся в плену и бежавшие от большевистского режима в поисках свободы и лучшей доли на Запад. Война закончилась победой страны, которая была их родиной, но вернуться домой могли не все: пленных сталинский режим преследовал, считая неполноценными гражданами. По возвращении их отправляли в тюрьмы «на исправление», и в глазах многих соотечественников они оставались предателями и отщепенцами. Большинство из них после окончания войны с трудом получили статус ДИ-ПИ (Displaced Persons) (перемещенные лица) и стали «невозвращенцами».
Оказавшись по ту сторону «железного занавеса», не имея ни крова, ни профессии, ни опоры близких, они обрекли себя на скитальческую жизнь и постепенно стали обживать чужие города и страны, испытывая постоянный страх перед насильственной отправкой в СССР.
Среди них было немало литературно одаренных людей, но «перемена географического и социального окружения» не способствовала творчеству. Все надо было осваивать в одиночку, ибо, как напишет позже Валентина Синкевич:
Кто мы? В Европе, в Америке — кто мы?
Где мы в гостях? И когда были дома?
Дом разбросал нас по белому свету
и притворялся, будто нас нету.
Не было вырванных с корнем нас.
Дом наш тогда никого не спас...
(«Нам бы писать, как бродили по свету»...)
В другом ее стихотворении выражены те же чувства:
А нас чужим давило бытом,
сбивало с речи, и с пути, и с ног.
Но карта — нет, еще не бита
и Слово не покинуло порог
пустого, старенького дома —
он обречен уже на слом.
Но мы стоим, как будто нету слома, —
во всем отчаяньи своем!
(«Вокруг чужая речь, своя ли...»)
На их судьбу наложили отпечаток разные события; говоря о своем поколении, Николай Моршен отождествляет себя с теми, кто «прожил мало: только сорок лет», но пережил столько, что счет надо вести на сотни лет:
Он прожил три войны, переворот,
Три голода, четыре смены власти,
Шесть государств, две настоящих страсти.
Считать на годы — будет лет пятьсот.
Как они жили? Печататься удавалось изредка, в немногочисленных русскоязычных газетах и журналах, в малотиражных сборниках, издававшихся ими же самими на скудные средства. Почти все авторы «держали прицел на читателя в России» (В. Перелешин), а до родных мест их произведения не доходили. После революции 1917 г. Россию покидали литераторы признанные, снискавшие мировую известность, и даже их, именитых, маститых (Бунина, Зайцева, Шмелева, Мережковского), замалчивали и запрещали. Что же могло ожидать тех, чей талант раскрылся на чужой земле... Тем более, что, боясь возвращения в СССР, почти все они подписывались псевдонимами и истинные имена открывали неохотно. И все-таки они выстояли.
Редкие экземпляры их книг, изданных за рубежом, оседали в центральных библиотеках Москвы и Ленинграда, доступ к ним был закрыт. Официально они были запрещены, хранились в закрытых фондах, и лишь редкие читатели имели возможность ознакомиться с ними по специальному разрешению. И тем не менее постепенно в СССР о них узнавали.
Одним из первых публикаторов поэтов второй волны стал поэт, редактор и издатель Е.В. Витковский, который еще в 70-е годы сумел установить личные контакты с некоторыми авторами. Он не только состоял с ними в переписке, но и, проявляя исследовательскую настойчивость, отыскивал ценнейшие материалы в эмигрантских газетах и журналах — в «Гранях», в «Новом журнале», в поэтических антологиях, вышедших в США: «На Западе» (1953 г., составитель Ю. Иваск), «Содружество» (1966 г., составитель Т. Фесенко), в ежегоднике «Встречи»1, особенно в первых двадцати выпусках, которые формировались в основном из произведений авторов второй эмиграции.
Уже первые исследовательские работы, касающиеся творчества «неизвестного поколения», появившиеся за рубежом и в России (их авторы Роман Гуль, Вадим Крейд, Иван Толстой, Евгений Витковский, Владимир Агеносов, Татьяна Буслакова и др.), показали, что поэтическое наследие второй эмиграции является существенным вкладом в историю русской литературы XX в. Большое значение имеют свидетельства самих писателей и поэтов — Татьяны Фесенко, Леонида Ржевского, Ирины Сабуровой, Валентины Синкевич, чьи статьи, очерки, книги мемуарного характера содержат ценнейшие материалы, необходимые современному исследователю.
Постепенно мы начали знакомиться с их творчеством. Читатели России получили поэтические сборники Ивана Елагина (1918-1987, Матвеев), Дмитрия Кленовского (1893-1977, Крачков-ский), Николая Моршена (1917-2001, Марченко) и др. Раскрывается «последняя тайна русской литературы» (М. Бабичева), известность приобретают представители блестящей плеяды поэтов, которые мечтали о признании и боялись забвения.
Сергей Бонгарт писал о желании вернуться в Россию стихами, но надеялся на это мало:
Тлеют давно страницы,
Выцвело имя поэта,
Лирик скончался в Ницце,
Трагик в Бельгии где-то.
Слава их редко тешила,
Статуи им не высила,
На шеи наград не вешала,
Не клала венков на лысины.
Жили с мечтой о чуде —
Хоть в виршах восстать из мертвых!
Только стихи, как люди, —
Мало стихов бессмертных.
У Игоря Чиннова эта тоска и надежда на возвращение домой его произведений звучит не менее пронзительно:
В Россию — ветром — строчки занесет...
Эх, эмигрантские поэты!
Не ветром, а песком нас занесет.
И стаю строчек у глухих ворот
Засыплет временем, бесчувственным, как лед,
Как злые зимние рассветы.
Засыплет нас... Но вдруг — раскопки!
Особенно эти чувства у многих обострились в конце жизни, например у Дмитрия Кленовского — поэта старшего поколения, почти единственного из всех, кто сформировался как поэт еще на родине и был там широко известен еще до отъезда. Неизбежный уход из жизни и желание не быть забытым — постоянный мотив его произведений последних лет:
Поезд мой в неизбежное,
Отходит без опоздания.
Скорей хоть что-нибудь нежное
Скажите мне на прощание.
Такими же чувствами пронизана и эпитафия «На смежных могилах», где автор сравнивает труд поэта и садовника. В ней всего две строфы. В первой он говорит о том, как трудились каждый над своим — поэт над словом, а садовник над саженцем. Во второй строфе речь идет о том, что остается после их смерти: каждый славен своими делами, которые и есть продолжение жизни:
Мы ушли. Но на какой-то срок
На земле неистребимо вешней
Сохранился: я — десятком строк,
Он — посаженною им черешней.
Человек, вечность, величие природы, смерть, война, любовь, творчество — жизнь во всех ее проявлениях становилась темой для поэтов. Но Юрий Иваск в предисловии к поэтической антологии «На Западе» обратил внимание на три, с его точки зрения, основные темы, которые доминируют у поэтов второй волны: первая — это Россия, вторая и третья — чужбина и одиночество.
В этом отношении характерно стихотворение В. Синкевич «Огонь», в котором не только соединены прошлое и настоящее, но выражена и уверенность в будущем. В нем «почти каждое слово несет несколько смыслов, синтаксис и ритм усложнены, автор стремится активизировать читательское восприятие, усиливает это повторами, глаголами в будущем времени: «все пройдешь», «забудешь степь», «полюбишь море», «будет в доме живой огонь», «будет хлеб сладок»:
Ты идешь по дороге, зная горечь разлуки,
ты пройдешь все — и не умоешь руки.
Ты поймешь все — от молчанья до слова
и найдешь хлеб, и найдешь кров
у другого крова.
Ты забудешь степь, полюбив моря и пустыни.
Ты преломишь хлеб, горький хлеб.
И отныне будет сладок он.
И огонь гореть будет в доме.
Будет в доме живой огонь.
(«Огонь»)
К России в своем творчестве почти все возвращались постоянно. Однако отношение к России у дипийцев строилось на основании опыта жизни в СССР, поэтому при всей любви к родной земле, к ее близкой сердцу неповторимой природе, истории, народу нередко сквозит столь понятная горькая обида на обстоятельства, обрекшие их на скитания и вытеснившие на чужбину, хотя они всегда знали, что «над красными Россиями цветет белая черемуха» (В. Шаталов).
Евгений Витковский привел в одной из своих статей слова из малоизвестной «Дипилогической азбуки» Ирины Сабуровой, фрагмент на букву «Р»: «Родина. Над утратой ее пролито немало горьких слез, но дипилогическое объявление о потере гласит так: «Потеряна горячо любимая родина. Умоляем не возвращать». Читать такие слова больно, но из песни слова не выкинешь.
Так же, как и представители первой волны, вторые четко разделяют смысл названия страны: Россия и СССР. Хотя первые родились и сформировались именно в России, а жизнь вторых прошла в СССР, при советской власти, но несколько десятков лет, конечно, не могли затмить тысячелетнюю историю России, ее образ отразился в пейзажах, в обычаях, в приметах ушедшего быта.
В поэтические воспоминания о Советском Союзе как о родине они вкладывают много автобиографических черт, того, с чем пришлось столкнуться самим: репрессии близких, отсутствие свободы слова, жестокость власти по отношению к собственному народу, особенно к тем, кто оказался в плену или был насильственно угнан на работы в Германию.
Иван Елагин, отвечая своему другу Сергею Бонгарту, сказавшему ему, что он родился «под счастливой звездой», исчерпывающе описал эпоху: «я родился при шелесте справок, анкет, паспортов, в громыхании митингов, съездов, авралов и слетов» и «под острым присмотром начальственных глаз». И это не случайное высказывание, не минутное раздражение, а осознанная и глубоко выстраданная характеристика эпохи. Во многих стихотворениях Елагина («Амнистия», «Семейный архив», «Россия под зубовный скрежет...», «А называют землю Колыма» и других) «звучит суровое осуждение времени, из-за которого мы потеряли родину», — скажет В. Синкевич. Звучит осуждение и в стихотворении Н. Моршена «Русская сирень»:
Сближаю ресницы и в радужном свете
В махровом букете хочу угадать,
Что в каждом загубленном ею поэте,
Россия теряла опять и опять.
Увы! Ничего она в них не теряла:
В обломанных ветках не видела зла,
Сгибала, срывала, ей все было мало,
Ломала сирень — а та ярче цвела.
Родившись «под красно-зловещей звездой государства», Елагин на всю жизнь запомнил, «как русские сосны качают верхи, как русские мальчики спорят о Боге, рисуют пейзажи, слагают стихи («Памяти Сергея Бонгарта»). Для него «и в Пенсильвании лист колдовской кружит, позванивая русской тоской». Одно из самых лирических стихотворений Елагина, отличающееся особой искренностью и глубиной чувств, о ностальгии, о том, что навсегда врезалось в память, как образ России — «окно с большим крестом посередине»:
Мне незнакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей — давно оставленной — России
Мне не хватает русского окна.
Оно мне вспоминается доныне,
Когда в душе становится темно —
Окно с большим крестом посередине,
Вечернее горящее окно.
Елагин в одном из интервью сказал, что вернее всего его поэзию следует отнести к гражданской лирике, которая охватывает вопросы всенародной жизни, и был уверен, что когда-нибудь его будут читать в России:
...Пойдут стихи мои, звеня,
По Невскому и Сретенке.
Вы повстречаете меня,
Читатели-наследники.
Эта мечта, к сожалению, осуществилась слишком поздно, до московского двухтомника «Иван Елагин», который вышел в 1998 г., поэт не дожил.
Характеризуя вторую эмиграцию, Р. Гуль подчеркнул, что «эти новые беженцы отнюдь не стремились к воссозданию России за рубежом. Они хотели лишь обрести мир, безопасность, спокойную жизнь вдали от кошмаров Советской России». Однако отношение к Советской России не затмило для них воспоминания о малой родине — о городах, в которых они родились и жили до войны, до эмиграции. Севастополю, своему родному городу, посвящала лучшие строчки Лидия Алексеева:
Мне только память о тебе — наследство,
Мой дальний город, белый в синеве,
Где и сейчас трещит кузнечик детства
В твоей до камня выжженной траве...
А Олег Ильинский вспоминает в стихотворении «Подмосковье» Новый Иерусалим, Истру, Волоколамск, леса под Рузой:
Я прошлое возделывал, как сад,
А в настоящем был, как столб, бездарен.
Я эти виды видывал во сне,
Я открывал их в мраморе и слове...
Спокойно спит у памяти на дне
Зеленая гробница Подмосковья2.
В их памяти навсегда осталась красота родной земли, «разве можно в землю не влюбиться?». «Мы вернемся, если будем живы, если к дому приведет Господь». «Городу детства Остру» посвятила не одно стихотворение В. Синкевич: «Только кажется, будто бы ветер навеки стер горькое, острое слово — Остер». «В городах-странах», в небоскребах поэту все равно видится «белый призрак берез», вспоминается и детство в Остре. Образ березы — традиционный для русской поэзии есть у Сергея Бонгарта. Поэт сравнивает себя с березкой, стоящей в большом городе у дороги. Незащищенная от бурь и ветров, «у машин проезжих на виду», она вызывает чувство обиды и горечи, хотя должна радовать своей красотой.
Ей бы на холсте у Левитана
Украшать какой-нибудь пейзаж.
Или в русской выситься деревне,
Где растут поэты от сохи,
Где березы стройные издревле
Опадали в песни и стихи.
И, оглядываясь на свое прошлое и на свою судьбу, поэт завершает стихотворение словами:
Я стою как будто бы на тризне
У шоссе, где смрад и визг колес...
Горько мне, что не сложились жизни
Так как надо — даже у берез!
С. Бонгарту «вспоминается юность все чаще, //мокрый Киев, веселый трамвай, //на зеленую площадь летящий», видится ему «крест с рябиной, где к небу лицом// в самой гуще кладбищенской чащи // похоронены мать с отцом», а калифорнийская осень напоминает киевскую и все чаще тянет домой.
Ностальгические мотивы в поэзии второй эмиграции выражены слабее, чем в произведениях, созданных за рубежом представителями первой волны, где «все лишь Россией и дышит» (Б. Зайцев). Но и условия жизни были разными. Новые эмигранты оказались разрозненными, не было такого мощного объединяющего центра, как у первых в Париже. Их литературные опыты состоялись в лагерях для перемещенных лиц в Германии, печататься было негде, периодические издания появились не скоро после окончания войны, к тому времени их жизнь снова поменялась.
Начиная с 1948 г. почти все литераторы второй волны обосновались в США и оказались в другой, англоязычной, среде, и далее их творчество складывалось не без влияния англоязычной культуры. Они, в свою очередь, влияли на американскую культуру. Происходило как бы взаимообогащение.
В интервью, данном Ирине Чайковской3, В. Синкевич говорит о том, как ей «удалось жить в двух культурах: «В своей, которая останется со мной до конца, и в американской. В новой стране я смогла взять лучшее, то есть то, что я считаю для себя лучшим — литературу». И необычную ритмику своих стихов поэтесса объясняет влиянием «современной своевольной американской поэзии». Говоря о стихах Ольги Анстей, Синкевич обращает внимание на явно звучащую в них «русскую ноту при описании нерусского пейзажа»4:
Вот станциюшка
И городок.
Бежит речушка,
Стоит прудок.
Как видим, «обрусевшим» четверостишие становится благодаря существительным с уменьшительными, ласкательными суффиксами.
Чувство родины неистребимо, и отголоски воспоминаний о родной земле, ее черты находим почти у каждого поэта второй волны.
«Эмиграции осуждены на умирание, — писала З.Н. Шаховская, — и только посмертно то, чем они жили, то, для чего они жили, возвращается к истокам, не задержавшись навсегда в странах, где они были гостями».
Некоторым представителям второй волны эмиграции повезло увидеть возрождение России и побывать в Москве, Петербурге и в других городах — на конференциях, на презентациях собственных книг, на многочисленных встречах с читателями. Охватившее их смятение чувств передано в стихотворении Синкевич «Нам бы писать — как бродили по свету»:
Все мы одеты, обуты и сыты.
И многое навсегда позабыто.
И не спросит уже никто:
как носилось чужое пальто?
Где велико было? Где оно жало?
Что — ностальгии осиное жало?
Время бежало, бежало, бежало...
Нас уже будто совсем не бывало.
Времена глаголов характеризуют прошлое и настоящее, и совсем не неожиданностью, а закономерностью воспринимается заключительный аккорд:
Нам бы отпраздновать нашу победу:
Завтра в Москву безнаказанно еду.
И возвращаюсь спокойно назад...
Уже несколько лет подряд.
1 Альманах «Встречи» издавался В. Синкевич до 2007 г.; с 1977 по 1983 г. назывался «Перекрестки».
2 Новый журнал. - 1970. - Кн. 100. - С. 77.
3 Seacull. - № 17. Сентябрь, 1-15, 2007.
4 Синкевич В.А. ...С благодарностию были. — М., 2002. - С. 65.
Т.В. Гордиенко
Канд.филолог. наук, профессор РГУТИС, Москва






 Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий
Издательство «Свиньин и сыновья» выпустило несколько сотен самых разных по жанру, объему и авторам, но неизменно высококультурных изданий